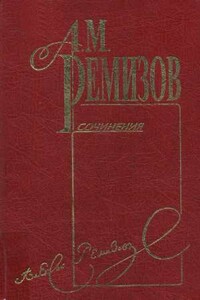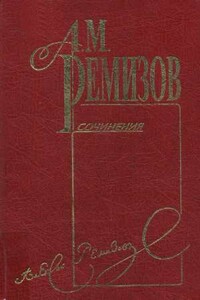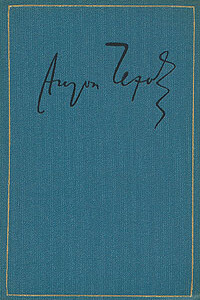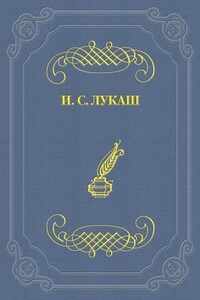Том 3. Оказион | страница 28
Вечером, когда стемнело и запертые раскрылись двери и зажглись люстры, встал старик с своего места и в короне, как царь, стоял посреди залы, и корона дала такой блеск, от которого дрогнули несокрушимые дворцовые стены.
И эта написанная завтрашняя воля, долженствующая перевернуть землю до ее основания, завтра же под этим блеском полетит к черту, и в три дуги согнутся рабьи спины и трижды на смерть поклянется подпольная глухая месть разбить трон и рассеять эти самоцветные камни адской короны.
— Они сами не знают чего хотят!
Он знал, чего он сам хотел.
Спускался старик по золотым лестницам, проходил среди подобострастных рядов, провожаемый льстивой улыбкой, под которой наглость брала города и дрожала мелкая душонка.
Час ночи прошел. И завтрашний просыпался свободный день.
Желания притупились, — не закручивались, и безумный бич не летел летом, не бил набатом, — он, заглушённый ещанием, гнал на улицы, собирал на площади, приковывая и старого и малого друг к другу.
И толпы, с перекошенными подозрительностью глазами, тысячу и один раз обманутые и обманувшиеся, тесно и угрюмо шли куда-то с подкатывающим к сердцу отчаянием.
Старик — придворный ювелир, — кутая сухие зябкие плечи в теплый женский платок, сидел в своей конуре, и глядел перед собой маленькими глазками, ставшими с тарелки.
В этих ужаснувшихся глазах кипел сам ужас, тоска и хохот.
А мимо окна шли и шмыгали тысячи ног неуверенно, как пьяные, и пьяные от отчаяния.
И, потирая руки, старик, как посаженный на кол, корчился весь при мысли о воле и, подняв однажды из глуби всю жизнь и взглянув прямо в глаза первому и последнему дню, он смеялся, брызжа в толпы проклятия и шутки.
Первородным светом светилась на его седой голове древняя корона.
И свободная занималась за окном заря над свободным городом и свободной страной, наливаясь кровью и тоской, как глаза старика, и разгоралась, чтобы кровавой и тоскующей завековать век.
Полунощное солнце
Поэмы>*
Северные цветы>*
Омель и Ен>*