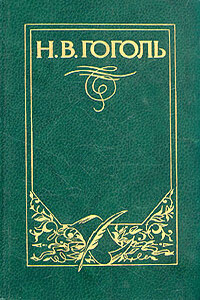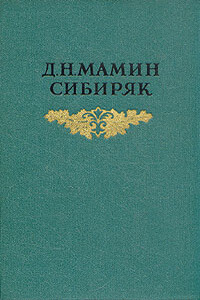Том 12. Письма 1842-1845 | страница 32
Весь ваш Гоголь.
Никитенко А. В., 10 апреля 1842>*
<10 апреля 1842. Москва.>
Милостивый государь Александр Васильевич>*!
Благодарю вас за ваше письмо. В нем видно много участия, много искренности и много того, что прекрасно и благородно волнует человека. Да, я не могу пожаловаться на цензуру: она была снисходительна ко мне, и я умею быть признательным. Но, признаюсь, уничтоженье Копейкина меня много смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом, который так отразился в письме вашем, вы сами можете видеть, что кусок этот необходим, не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается сильная прореха. Мне пришло на мысль: может быть, цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина, я выбросил всё, даже министра, даже слово: «превосходительство».[77] В Петербурге за отсутствием всех остается только одна временная комиссия. Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков, а не недостаток состраданья в других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, всё[78] теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы ни было отношении. Молю вас возвратить мне это место, и скорее сколько возможно, чтобы не задержать печатанья. У Плетнева вы возьмите рукопись и передайте ее потом ему же для пересылки ко мне. Ничего вам не скажу более, ибо вы сами в письме вашем сказали, что понимаете меня, стало быть, поймете и благодарность мою.
Истинно преданный вам Н. Гоголь.
Апреля 10. 1842. Москва.
На обороте: Его высокоблагородию Александру Васильевичу
Никитенке.
Прокоповичу Н. Я., 15 апреля 1842>*
Апреля 15 <1842. Москва>.
Что же ты замолчал? Теперь переписка завязалась между нами и потому не должна уже прерываться никогда. Она обратилась в дельную, а это — ручательство за ее долговременность и аккуратность. Прежде всего: к Плетневу о Копейкине. Я боюсь, чтобы не затянулось, а без Копейкина я не могу и подумать выпустить рукописи. Скажи, что я молю отстаивать во что бы то ни было. Просто страм цензуре, потому что теперь в том виде, как я переделал и послал к Плетневу, никакая цензура не может сделать привязки. Если имя Копейк<ин>а их остановит, то я готов его назвать Пяткиным и чем ни попало. Впрочем, имя Копейкина везде в других местах оставила цензура. Теперь второе: рукопись моя, без сомнения, уже побывала во многих руках в Петербурге, стало быть, о ней носятся толки. Пожалуйста, разведай, как и что говорят о ней, и, если можно,