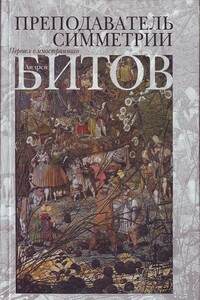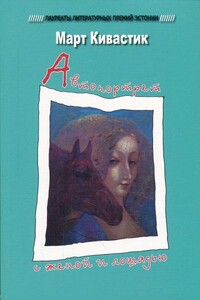Глухая улица | страница 13
Там стоит домик, которого, очевидно, уже не может быть в этой жизни. Там живут люди, так и не сумевшие стать плохими… Это они захватили пол-улицы, создав свой тупичок и пролив, потому что участка как такового у них не было, а им надо было жить вокруг дома. Да и дом — какой дом! — чья-то бесхозная баня, в которой поселился без памяти давно один пришлый, никому не знакомый человек, да всех и пережил, так и оставшись незнакомым и пришлым. И хотя вокруг все живут люди, позже него появившиеся, даже позже меня, даже просто вчера — но эти поздние так упорно строятся, врастают, пускают толстые и тупые, как морковки и пальцы, корни, что, конечно же, это они тут живут: он с такой-то, она с таким-то, — не он. Домик вытеснен на край улицы, как спихнут. Весь его неравномерный участочек сполз с нее, как лоскутное одеяло, окунув краешек в речку… Банька кое-как, по мере надобности, обросла клетушками и сараюшками, потому что время идет, семья растет — и никто не уходит, захватив пол-улицы и уголок падающего берега; они обнесли свое хозяйство, свой лужок, волнистым, прозрачным, из жердей, заборчиком — и их жизнь сквозит у всех на глазах, теневая и неузнаваемая: висит гамак, брошен таз, единственная грядка, маленькая, как могилка, так, для порядку, чтобы «отметиться» в этом мире за население, грядочка со всем на свете: две морковки, три укропа и один подсолнух, — на правах клумбы: ее надо полить, как дать котенку молока или щенку, что осталось, — есть с нее нечего и, главное, незачем — никакого производства.
Там ничего не слышно: не спорят, не ссорятся, не кричат, не выясняют… кто-нибудь покачается в гамаке, забудет книжку, кто-нибудь выйдет босой на лужок, посмотрит на таз… и все. Дудки, не дознаетесь, кто это был. И всему остальному, полнокровному и напруженному, Утверждающемуся вокруг бытию пришлось исключить этот уголок из своего сознания, из сферы своих посягательств как невидимую часть спектра, как неслышимую часть диапазона — как несуществующую. Этот случайно обнажившийся кусок одновременности другой жизни, идущей (трудно поверить в такое счастье…) внутри застывших и неудобных, утвердивших и насадивших себя форм… Смотрят сквозь нас, мы— сквозь них. И это единственное место на земле, где что-то случается.
Именно его и переехало ночью, пьяного, поездом, что я и узнаю той весной или этой, и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого, осенью, без ноги, и удивляюсь, что не замечал раньше, что он безногий… но это два разных рассказа и неизвестно, который сначала: сначала ли он был без ноги, а потом его переехало, ну а совсем вчера — я встретил его целехонького и живого, или, наоборот, время идет в обратном направлении у них на участке, нам навстречу или вспять от нас, — у нас-то оно не идет; их время проходит сквозь нас, и скоро у внучка наконец появится дедушка. Там, у них, иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит — чур я тут! — и смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал наконец от нас. Там все любят — какое кому дело! — пролитое мимо молоко…