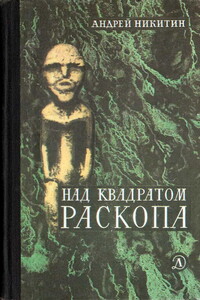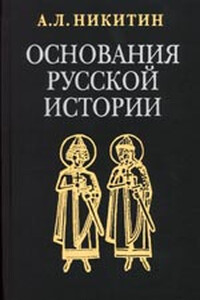Исследования и статьи | страница 21
Столь же примечательны и другие косвенные свидетельства христианства половцев, которыми располагает исследователь. Речь идет о русско-половецких браках, заслуживающих внимания по многим причинам.
В системе матримониальных связей древнерусских князей русско-половецкие браки занимают особое место уже потому, что это единственные известные нам браки Руси со Степью. Никто из предшествовавших половцам кочевников не удостоился родства с так называемыми «Рюриковичами» — ни печенеги, ни торки, ни берендеи, ни угры, ни исламизированные волжские болгары, ни даже хазары, породнившиеся с Византией. Можно полагать, что русские князья брали жен или из числа своих родственников, или из аристократии исключительно христианских народов. Обратных примеров до середины XIII в. у нас просто нет. Правило это подтверждают отдельные браки с ясами/аланами, предками современных осетин, которые в то время были распространены от Северного Кавказа до верховьев Дона и являлись христианами. Предполагать, что в конфессионально-матримониальном вопросе для половцев было сделано исключение, нет никаких оснований. Последнее тем более вероятно, что, упоминая о браках с половчанками, летописи ни разу не говорят об их крещении. Самое большее, что можно обнаружить, это церковное венчание «задним числом», как то произошло с Владимиром Игоревичем и дочерью Кончака, вернувшимися на Русь уже с первенцем, который крещен был, как можно догадаться, еще в степи.
Что же касается «еретичества» новоявленных русских княгинь, то оно, по-видимому, «гасилось» приобщением к православной обрядности и удостоверялось почитанием икон и креста. Впрочем, какой-то обряд мог иметь место при получении уже русского имени, хотя и это остается только в области предположений.
Любопытно и другое. Как ни мало нам известно о половцах, их жизни и обычаях, можно видеть, что и сами они в своих контактах и симпатиях отдают явное предпочтение христианским народам. На половчанке — внучке Шарукана, дочери Атрака и сестре Кончака — женился в 1118 г. вторым браком грузинский царь Давид IV Строитель, хотя придворная грузинская традиция строго соблюдала выбор царицы исключительно из круга христианских народов. Вместе с родственниками жены Давид пригласил для защиты Грузии 40 тысяч половцев, которые в нескольких решающих битвах спасли страну от порабощения турками-сельджуками, особенно прославив себя в битве при Дидгори 12 августа 1121 г.