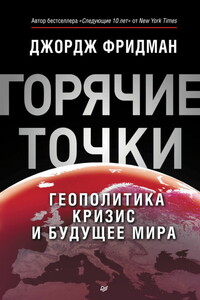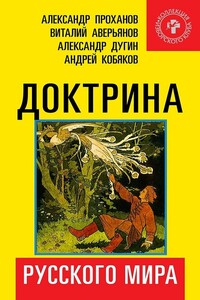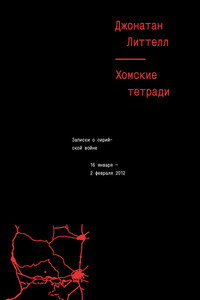Ориентализм | страница 39
76
« стыд. Тем самым, если «западные люди высоко ставят в своей системе ценностей мир» и если «мы обладаем развитым сознанием ценности времени», для арабов все это обстоит иначе. «В действительности, — говорят нам, — в арабском племенном обществе (откуда происходят арабские ценности) раздор, а вовсе не мир был нормальным положением дел, и потому набеги были одним из двух основных способов поддержания экономики». Целью такого научного исследования было просто на просто показать, что на западной и восточной шкалах ценности «сравнительные позиции элементов совершен* но различны». Вот подлинный апогей ориенталистской самонадеянности. Не просто утверждаются расхожие общие места, но попирается само достоинство истины, нет никаких попыток увязать теоретические характеристики черт восточного человека с его поведением в реальном мире. С одной стороны, есть западные люди, и, с другой, есть восточные люди, арабы. Первые (порядок не важен) рациональны, миролюбивы, либеральны, логичны, способны придерживаться реальных ценностей, лишены природной подозрительности; последние не обладают ни одной из этих черт. Из какого коллективного или хотя бы партикуляризированного взгляда на Восток рождаются подобные суждения? Какие специальные навыки, какое имагинативное давление, какие институты и традиции, какие культурные силы задают подобное сходство в описаниях Востока между Кромером, Бальфуром и нашими современными государственными деятелями? * Glidden, Harold W. The Arab World // American Journal of Psychiatry. Vol. 128, no. 8. February 1972. P. 984–988.
77
II Имагинативная география и ее репрезентации: ориентализация Востока
Строго говоря, ориентализм — это сфера научного исследования. На христианском Западе официальный отсчет ориентализма ведется от решения Венского церковного собора в 1312 году открыть ряд кафедр «арабского, греческого, древнееврейского и сирийского языков в Па* риже, Оксфорде, Болонье, Авиньоне и Саламанке». Те м не менее, любой разговор об ориентализме должен учитывать не только профессиональных ориенталистов и их труды, но также и само представление об этом поле исследования, которое основывается на географической, культурной, лингвистической и этнической категории под названием «Восток». Поля [исследований], конечно же, создаются людьми. Со временем они приобретают связность * Southern R. W. Western Views of Islam in the Middle Ages. Cambridge, Mass.; Harvard University Press, 1962. P. 72. См. также: Dvornik, Francis. The Ecumenical Councils. New York: Hawthorn Books, 1961. P. 65–66: «Особый интерес представляет одиннадцатый канон, определяющий, что кафедры для преподавания древнееврейского, греческого, арабского и халдейского должны быть созданы при главных университетах. Это предложение исходило от Раймонда Луллия, который отстаивал необходимость изучения арабского как лучшее средство для обращения арабов. Хотя канон остался практически без последствий, поскольку трудно было найти достаточное количество преподавателей восточных языков, сам факт его принятия говорит о росте миссионерских настроений на Западе. Григорий X надеялся также на обращение монголов, а францисканские монахи в своем миссионерском рвении проникли в самые глубины Азии. Несмотря на то, что эти цели не были достигнуты, миссионерский дух продолжал развиваться». См.: Fück, Johann W. Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20 Jahrhunderts. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955.