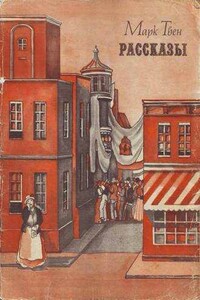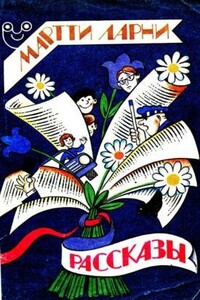«А» упало, «Б» пропало… Занимательная история опечаток | страница 71
Чехову тоже доставалось от «беса опечатки» не меньше — и в его переписке тема эта возникает постоянно.
«В одном рассказе столько опечаток, что читающему просто жутко делается! Вместо „барон“ — „бабон“, вместо „мыльная вода“ — „пыльная вода“… Не могут корректора порядочного нанять…» (это о своей публикации в журнале «Стрекоза»).
«Опечаток в моих „Именинах“ видимо–невидимо…»
Суворину в 1890 году:
«Велите потщательнее прочесть корректуру, а то святочные рассказы выходят у Вас обыкновенно с миллиардами опечаток».
«В издании „Три сестры“ было сделано много опечаток…»
«В своей пьесе на 85 странице я нашел довольно неприятную опечатку».
Весной 1900 года опечатки как‑то особо одолели Чехова. Антон Павлович отдал свою повесть «В овраге» в журнал «Жизнь». Потом читал корректуру. А затем получил номер журнала, после чего сразу отправил редактору «Жизни» Владимиру Поссе письмо:
«Многоуважаемый Владимир Александрович, напрасно я читал корректуру, ее в типографии не исправили. Как были „табельные“ вместо „заговенье“ (стр. 203), так и осталось… „Глазы“ корректор исправил, показалось ему неправильно (216), а Гантаревы вместо Гунторевы так и осталось…
Все эти опечатки, особенно „табельные“ и „Цыбулякин“ (231 внизу), „Цыбулькин“ (233, 8–я строка сверху), так аффрапировали меня, что я теперь видеть не могу своего рассказа. Такое обилие опечаток для меня небывалая вещь и представляется мне целой оргией типографской неряшливости…»
К слову сказать, герой повести был не Цыбулякин и не Цыбулькин — Цыбукин. «Аффрапированный» Чехов пожаловался на опечатки и Горькому, с которым тогда переписывался. А потом — поостыв — снова написал редактору «Жизни»:
«…За опечатки я сердился не на Вас, а на типографию. Теперь у меня отлегло, я забыл про них, но мною руководил не столько гнев, сколько рассуждение, что типографию необходимо пробирать почаще… Надо бороться с опечатками, и со шрифтом, и проч. и проч., иначе эти мелкие назойливые промахи станут привычными, а журнал постоянно будет носить на себе некоторый, так сказать, дилетантский оттенок. А бороться, по–моему, можно только одним способом: постоянно заявлять о замеченных ошибках…»
Велимир Хлебников. «Современность»
Тут уже пошел модернизм, и тут все непросто. У Алексея Крученых были такие мудреные тексты, что и понять нелегко, где опечатка, а где языковой выверт, задуманный автором. Да и сам Хлебников писал: «Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи… и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику». Поэтому хоть опечаток у Хлебникова было множество, но это как бы и не опечатки.