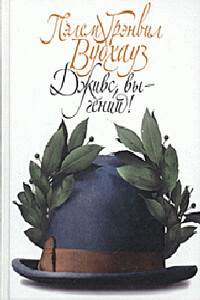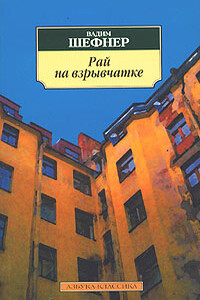«А» упало, «Б» пропало… Занимательная история опечаток | страница 25
ВМЕСТО НЕДОБЛУДОВ — ПЕРЕБЛУДЫ
Живет перепечаткамиГазета–инвалидИ только опечаткамиПорой развеселит.Саша Черный. «На славном посту»
Ну а что же российская пресса стародавних времен? Какие‑то ее опечатки читателю уже известны, но это лишь самое начало поистине бесконечного списка…
Уже первый ежемесячник России — «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» — вел неравную борьбу с вездесущим «бесом». Списки опечаток публиковались там постоянно: то за последний номер, то даже за одну отдельно взятую статью. Позже такая практика стала обычной и в других периодических изданиях.
Знаменитый в начале XX века журнал «Старые годы» рассылал подписчикам ежегодное приложение: «Алфавитный указатель. Оглавление. Главнейшие опечатки». Стоит заметить: только главнейшие! Так что известный юморист советских лет Эмиль Кроткий зря шутил: «Годовые подписчики журнала получали в качестве приложения к нему перечень допущенных за год опечаток». Не гротеск — суровая реальность!
Вот еще пример: знаменитый в середине XIX века журнал «Москвитянин». Опечаток там было превеликое множество.
Скажем, вместо «с тремя жирафами» журнал однажды напечатал «с тремя эпиграфами». А давая поправки к статье Сергея Аксакова, озаглавил эти поправки так: «допущенные проступки». Вообще‑то полагалось бы «допущенные пропуски», но «Москвитянин» опечатался, причем сделал это весьма самокритично.
А вот цитата из Николая Семеновича Лескова. Взяв в руки первый номер известного журнала «Гражданин», выпускавшегося князем Мещерским, он написал другому знаменитому писателю, Алексею Писемскому: «Издание серо, неопрятно и преисполнено опечаток».
Лесков же рассказал о газете «Киевский телеграф», редактор которой Альфред фон Юнк (в транскрипции Лескова — Юнг) был горячим энтузиастом своего дела. Цитата из Лескова довольно обширна, но сокращать в ней, право же, нечего. Вот она:
«Газету эту цензор Лазов считал полезным запретить „за невозможные опечатки“. Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: „во вчерашнем №, на столбце таком‑то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица“. Юнг был в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал: „зачем‑де поправлялся!“
— Как же не поправиться? — вопрошал Юнг, и в самом деле надо было поправиться.
Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил: