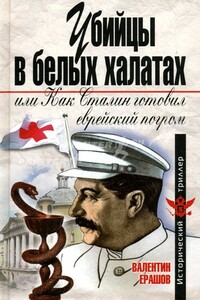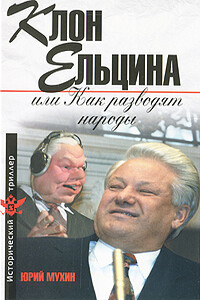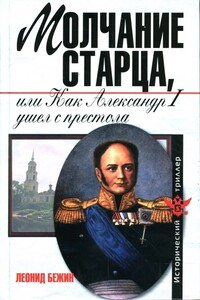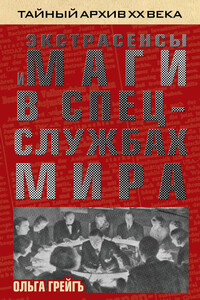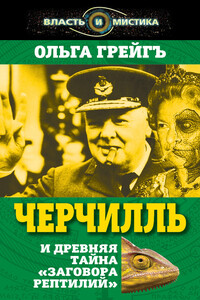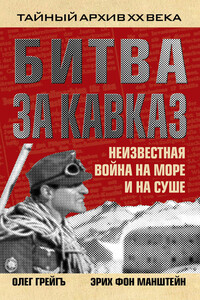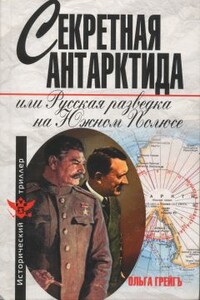Красная фурия, или Как Надежда Крупская отомстила обидчикам | страница 71
Человек чести, князь Мещерский через своих людей рекомендует Елизавете Васильевне, написать прошение, чтобы ее дочь освободили из заключения. Вскоре поступило распоряжение, что Надежду необходимо обследовать по причине ухудшившегося состояния здоровья. А, значит, в связи с этим обстоятельством ее должны были освободить. Но освобождение наступило еще прежде, а причастной к нему оказалась одна несчастная, которая, облившись керосином в камере, подожгла себя. Поэтому МВД было принято решение (оберегая хрупкую женскую нервную систему!!!) выпустить до вынесения приговора под надзор полиции некоторых находящихся в Петропавловской крепости женщин; и в апреле 1897 года Надя оказывается на свободе.
Но отчего произошла та чудовищная дикость, кто довел бедняжку заключенную, молодую курсистку до подобного конца? Читаем: «самым крупным событием в истории Трубецкого бастиона за 90-е годы было самоубийство Марии Ветровой. В 6 часов вечера 8 февраля 1897 г. в камере № 7 второго этажа запылал живой факел: заключенная Ветрова, облив себя керосином из лампы, принесенной в ее камеру, подожгла себя. Она умерла в страшных мучениях лишь на четвертые сутки — 12 февраля… В архивном деле департамента полиции отмечено посещение Ветровой заведующим арестантским отделением штаб-ротмистром Подревским в первый же день перевода сюда заключенной. Он предложил ей выбрать книги для чтения… По официальным документам, Ветрова не проявляла душевного расстройства до 4 февраля. В указанный день дежурный унтер-офицер доложил Подревскому, что заключенная № 3 кажется ему сильно расстроенной и ненормальной. Тюремный врач Зибольд (скорее всего фамилия врача-немца была Зибольдт. — Авт.), посетивший вместе с двумя жандармами заключенную 4 февраля, показал, что Ветрова гнала жандармов и кричала… Акушерка Шахова подтверждала предположение врача о психической ненормальности заключенной» (М. Гернет, с. 174–175). Так кто помог проявиться негативным задаткам психики сироты, заботливо опекаемой, охраняемой и просвещаемой родным государством?! — эх, если бы не так называемые революционеры и революционерки, втянувшие заблудшую душу в политические игрища!
Нахождение Крупской в тюрьме впоследствии было интерпретировано советскими «историками» как «стойкость» и сверхчеловеческая преданность партии и вождю. Вот примеры лживого пафоса: «Стойкость Крупской поражала даже видавших виды судейских чиновников и тюремщиков»; «Прокурор, наблюдавший за поведением девушки в заключении, на одном из допросов сказал ей, перефразировав Некрасова: «Теперь я вижу, что у вас под маской наружного холода скрыта бесконечная любовь к революции» («Биография», с. 26). А вот пример наглого вранья: «В своем заключении по делу арестованной прокурор написал: «Обвиняемая Надежда Крупская злоупотребляла своим положением учительницы при воскресной школе на Шлиссельбургском проспекте, играла за Невскою заставой роль представительницы интеллигенции, т. е. преступного социал-демократического сообщества, и к ней рабочие обращались, имея надобность в интеллигенте-руководителе» (Ученые записки Высшей школы профдвижения ВЦСПС, вып. 1, М., 1957, с. 100); обвинять царскую власть в неуважительном отношении к интеллигенции — это цинизм высшей пробы омерзительности, как и считать русских рабочих быдлом, нуждающимся в «интеллигенте-руководителе».