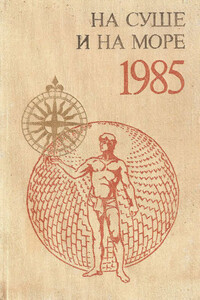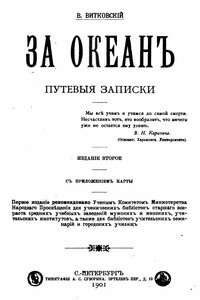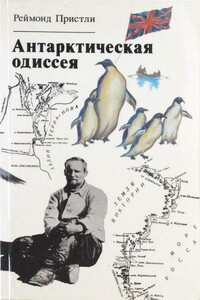Остров метелей | страница 57
Глава VIII
Болезнь. — Сочувствие эскимосов. — Последние дни 1926 года. — Зарево. — Цинга. — Эскимосские сказки
27 ноября я собирался выехать в бухту Сомнительную — проверить результаты охоты Пали и Анъялыка, но поднявшаяся пурга задержала меня. Целый день чувствовал себя скверно, работа не клеилась. Вечером поднялась температура до 37,6°.
На следующее утро меня разбудил Павлов, который должен был ехать со мной. Я сказал, чтобы он собирался, хотел подняться с. постели и не смог: руки и ноги одеревенели, потеряли чувствительность. Термометр показал 38,4°.
Поездку пришлось отменить.
У меня началось острое воспаление почек.
Всю первую половину декабря стояла жестокая погода. Господствовали северные' ветры, почти непрерывно пуржило. Держались сильные морозы. В полубреду я прислушивался к завываниям вьюги, к грохоту крыши, вою собак и гадал, сумеет мой организм побороть болезнь или нет.
Страха смерти я не ощущал. Смерть представлялась таким же нормальным явлением, как постоянный сумрак за стенами дома, занесенные снегом окна, как бесконечные завывания вьюги и собак.
Иногда мне грезились, большие города, яркие цветы, свежая зелень. В бреду я встречался с друзьями, оставленными на материке. Но это не обостряло желания жить.
…Эскимосы навещали меня. Чаще других приходил Иерок. Он говорил: «Плохо компани. Умирай не надо. Скоро нанук [17] придет — стреляй надо».
Аналько просил, чтобы с материка ему прислали недорогие часы. Потом, видимо, желая подбодрить меня, объяснял на своем русско-английско-эскимосском диалекте, что при переезде на северную сторону острова оставит мне свою маленькую байдарку. «Утка стреляй будешь», — закончил он свою речь, которую я понимал с трудом.
Приехал навестить меня из Сомнительной и Анъялык. Он говорил: «Я шибко боится. Умилык умирай — как наша живи? Не могу умирай».
Потом попросил у меня карандаш и собаку.
Другие эскимосы смотрели на меня и качали головой: «Сыг'лыг'ук', сыг'лыг'ук'» (Плохо, плохо).
Эти простодушные люди, с их шитой белыми нитками хитринкой и вместе с тем с детской искренностью, давно утраченной в цивилизованном обществе, своеобразно выражавшие свое доброе отношение, связывали меня с жизнью больше, чем что-либо другое.
За четыре месяца я не только привык к ним — як ним привязался. Оставить их в этой суровой обстановке, оторванной от мира, с людьми, на которых по тем или иным причинам нельзя было положиться, я просто не мог. Они-то и держали меня в жизни, словно корни, и я судорожно за нее цеплялся.