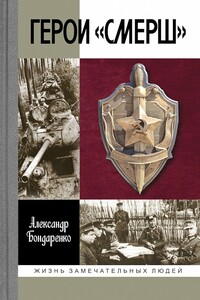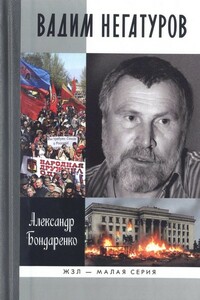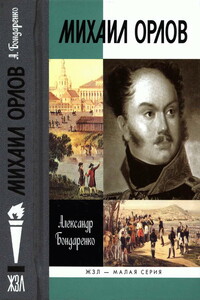Горькое лето 41-го | страница 45
4. Постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать тыл и госпитальную базу».
Отметим, что в тексте упомянутых выше двух абзацев, как и в остальной части документа, нет прямых указаний на то, что авторы плана имеют в виду открытие военных действий войсками Красной Армии. Слова и выражения «упредить», «атаковать», «нанести внезапный удар» на уровне обыденного языка лишены того смысла, который в них вкладывают исследователи, интерпретируя весь отрывок в целом.
В ходе любой войны войска сторон обмениваются ударами, внезапность которых для противника — важнейшая предпосылка победы, одно из слагаемых военного искусства. Например, в ноябре 1942 года наши войска нанесли по противнику внезапный удар под Сталинградом. Так что атаковать противника, достигая при этом внезапности, можно и в ходе войны. Затруднение вызывает тот факт, что сделать это авторы «Соображений…» предполагали, «упредив» противника в развертывании.
Даже историкам, привыкшим писать о «вероломном и внезапном» нападении Германии, произошедшем 22 июня 1941 года, трудно представить себе, что война могла начаться как-то иначе. Некоторые авторы, приводя цитаты из работ М. Н. Тухачевского, свидетельствующие о наступательных задачах армий прикрытия, пытаются утверждать, что «советская военная наука… считала, что ныне войны не объявляются, а начинаются внезапным ударом». В то же время известно — и это неоднократно подчеркивалось в литературе, — что советские военные теоретики по-разному определяли содержание начального периода войны. Дискуссия по этому вопросу в ту пору еще не была завершена, о чем свидетельствуют публикации 1941 года в военных журналах. Рассекреченные документы предвоенного планирования только подтверждают тот факт, что наше военное руководство исходило из такого представления о начальном периоде войны, в соответствии с которым начало войны и вступление в нее главных сил противоборствующих сторон хронологически не совпадают. Военные действия в этот период должны были вестись ограниченными силами с целью помешать развертыванию основных сил противника.
Кроме того, следует учитывать, что от правильных теоретических представлений значительная дистанция до усвоения или хотя бы знакомства с ними основной массы военных — практиков, чья военно-теоретическая подготовка, что общепризнанно, оставляла перед войной желать лучшего. Рассекреченные материалы декабрьского 1940 года совещания высшего командного состава РККА показывают, что советское военное командование не уделяло рассмотрению вопроса начала войны достаточного внимания. Так, за исключением начальника штаба Прибалтийского особого военного округа генерала П. С. Клёнова, ни один из выступавших на совещании генералов не коснулся этой проблемы. Клёнов безотносительно к обсуждаемому в тот момент вопросу решил высказаться по поводу только что опубликованной книги комбрига Г. С. Иссерсона «Новые формы борьбы» и подверг критике утверждение, что в предстоящей войне начального периода в прежнем его понимании не будет.