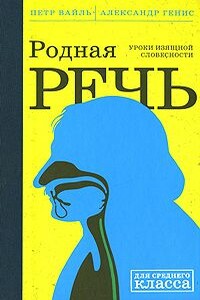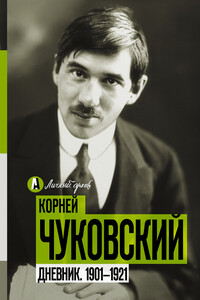Стихи про меня | страница 32
Все верно: стихи, к тому же на слух, толком не понятны, слышна лишь просодия. Невнятица во всех случаях: либо монотонная и вялая, либо — как в цветаевском случае — ритмичная и звучная. Интонация важнее содержания. Но все-таки поразительно: военный коммунизм не кончился, НЭП не начался — как же сильна еще была инерция свобод. И с другой стороны: как отчаянно отважна была Цветаева.
Через всю ее жизнь ориентирами проходят рыцари: Наполеон, лейтенант Шмидт, герой Американской и Французской революций герцог Лозен, ростановский Орленок, Тучков 4-й, Андрей Шенье, Кавалер де Грие, Жанна д'Арк, офицеры Добровольческой армии, св. Георгий, "драгуны, декабристы и версальцы". И один на протяжении трех десятилетий — муж, Сергей Эфрон.
Это о нем: "В его лице я рыцарству верна..." Тут особенно примечательна двойная датировка: "Коктебель, 3 июня 1914 г. — Ванв, 1937 г.". Цветаева, говоря коряво, актуализировала — декларативно, вызывающе — свое давнее стихотворение в те дни, когда французская полиция допрашивала ее о причастности Эфрона к убийству в Швейцарии советского перебежчика Игнатия Рейсса. Эфрон, сам не убивавший, но как давний агент НКВД расставлявший сети на Рейсса, к тому времени уже бежал в СССР. Его советская жизнь оказалась трагична и коротка, но все же длиннее, чем у Цветаевой: мужа расстреляли в октябре 41-го, через полтора месяца после самоубийства жены.
В эмигрантских кругах Эфрона после побега единодушно называли одним из убийц Рейсса. Как всегда в таких случаях, отбрасывая безупречную до сих пор репутацию человека, прошедшего с Добровольческой армией Ледяной поход от Дона до Кубани, находились свидетельства и свидетели его порочной сущности.
"Всю свою жизнь Эфрон отличался врожденным отсутствием чувства морали". Это из анонимной статьи в парижской газете "Возрождение". Дальше там и "отвратительное, темное насекомое", и "злобный заморыш" (в любом случае никак не заморыш — видный и высокий, хоть и очень худой мужчина). Если бы анониму не заливала глаза и разум злоба, он бы мог развить мысль и дать прорасти брошенному зерну.
Честь — превыше морали. Честь — замена морали. Честь — и есть мораль.
Поведение Пушкина в истории последней его дуэли нелепо с позиции разума и довольно сомнительно с точки зрения этики, но выдержано по правилам чести. Мы вольны к этому относиться как угодно, но не считаться с этим — не можем, нам просто ничего другого не остается, коль скоро сам Пушкин принял такую иерархию принципов. Лермонтов в своем отклике "На смерть поэта" высказался исчерпывающе в двух словах: "невольник чести". Все дальнейшие рассуждения о гибели Пушкина — так или иначе вариации этого словосочетания. (Отвлекаясь, заметим, как в развитии темы возникает извечное русское клише о враждебном инородце: "Смеясь, он дерзко презирал / Земли чужой язык и нравы, / Не мог щадить он нашей славы, / Не мог понять в тот миг кровавый, / На что он руку поднимал". Всего через четыре года новая слава России, сам Лермонтов, был точно так же убит вовсе не чужим и вполне понимающим язык и нравы русским человеком Мартыновым.