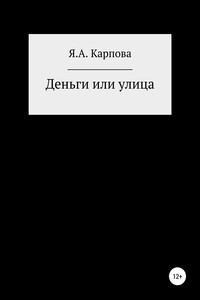Жак Меламед, вдовец | страница 17
Уже тут, в Израиле, к нему через толщу времени иногда прорывались и это тиканье, и это звериное у-у-у-у-у... Просиживая часами в вечереющей гостиной вместе с вещуньей-кукушкой, Жак старался воссоздать в памяти облик родителей, точно так, как дети из раскрашенных в разный колер кубиков собирают игрушечный поезд; в его воспаленном воображении возникали и воедино складывались продолговатая голова отца; высокий гладкий лоб, не разлинованный морщинами; пышная, раввинская борода, которую он, колдуя над часами, по обыкновению поглаживал, словно пушистого котенка; карие, навыкате, глаза; лупа в худой поросшей рыжими волосами руке; хрипловатый, тронутый ржавчиной голос; пухлые щеки мамы; широкий, смахивающий на клюв уточки нос; черные, вразлет, брови; поношенный салоп со слюдяными сосульками пуговиц. Вот-вот, казалось, заскрипит массивная дверь, и родители неспешно войдут в гостиную, Жак подскочит из кресла, кинется к ним, обнимет маму, усадит ее рядом с собой, накроет шерстяным пледом ее больные, изъеденные ревматизмом ноги, но через минуту-другую все то, что удавалось слепить и соединить, вдруг начинало распадаться, отделяться от целого, рассыпаться; и в сумраке — Жак не любил рано зажигать свет — высвечивались только горящие глаза мамы, и откуда-то, не то из подвала на Мясницкой, а может быть, из могильного оврага под Вильнюсом, доносился озабоченный голос отца: "Янкеле! Где ты, Янкеле?" Кроме отца и матери, его никто больше так не называл. Ни в Польше, куда он в сорок четвертом бежал из Рудницкой пущи, ни в Париже, где на пути в Израиль он два года подряд подметал улицы и мыл на бульварах витрины. Хозяйка бистро — вдовица Селестина, питавшая нежные чувства к изголодавшемуся еврею-подметальщику, в любовном пылу офранцузила его имя, а впоследствии, когда его со спецзаданием командировали в Парагвай, он, с легкой руки начальства, и вовсе стал "французом" — Жаком Пассовером.
"Где ты, Янкеле; где ты, Фрида; где вы, Шмулик и Моси, Хаим и Нохем, товарищи и однополчане, павшие в боях за Иерусалим?" Каждый вечер в пустой, укутанной в сумрак квартире на Меламеда обрушивались эти "гдегдегдегдегдегдегде?", и раз за разом тишина выстраивала в печальный ряд тех, кого если и можно было еще где-то найти, то только на кладбище.
Раньше, до операции на сердце, Меламед ездил к жене на кладбище в Ришон ле-Цион на красном, юрком "Фольксвагене", подаренном близнецами к какому-то его юбилею; порой он даже добирался на другой конец Израиля — в Беэр-Шеву и Мицпе-Рамон, Нагарию и Цфат, чтобы помянуть рюмкой водки и невольной слезой друзей, павших в войнах с арабами. Но с тех пор, как доктор Липкин, дальний родственник опального наркома иностранных дел Литвинова, смещенного Сталиным с поста за недоверие… к Гитлеру, строго-настрого запретил ему садиться за руль, Жак отправлялся на кладбище на рейсовых автобусах, а иногда его выручал друг Моше Гулько, личный, как шутил Меламед, шофер, регулярно возивший своего соседа "на техосмотр" к весельчаку и балагуру Александру Липкину в Тель-Авив, в центр кардиологии, на улицу Друянова, а в день поминовения — на могилу к Фриде.