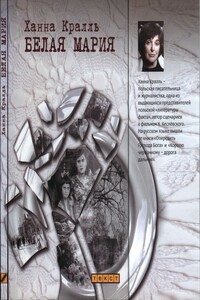Опередить Господа Бога | страница 21
Один на один с сердцем, которое трепещет в своей сумке, как маленький испуганный зверек.
Все еще трепещет.
Я показывала то, что до сих пор написала, разным людям — а они не понимают. Почему я не рассказала, как он спасся? Еще неизвестно, как спасся, а уже сидит под дверью Профессора. Но ведь он должен там сидеть; если бы его не было, Профессор уже давно был бы дома, перед телевизором, на середине «Последних известий», расслабившийся и совершенно спокойный.
Так что он обязательно должен сидеть под этой дверью вместе с Агой и Эльжбетой Хентковской. Правда, Эльжбеты уже нет. То есть она там, покуда они сидят и ждут, но ее нет сейчас, когда я об этом пишу. Есть награда имени доктора Эльжбеты Хентковской, которая будет присуждаться за выдающиеся достижения в области кардиологии.
Фондом для этой награды стал гонорар за работу «Инфаркт сердца». В той работе — о голодной болезни — Эдельман не мог принимать участия, поскольку в больнице в гетто был всего лишь рассыльным, но в этой он описал все, что узнал о людях с сердечными заболеваниями. Тося Голиборская говорила ему, что в больнице догадывались о других его занятиях, про которые не следовало расспрашивать, и потому особенно не загружали, разве что ежедневно посылали на санэпидстанцию с кровью тифозных больных, после чего он мог занять место у входа на Умшлагплац, где и стоял изо дня в день в течение шести недель, пока все четыреста тысяч не прошли мимо него к вагонам.
В фильме «Реквием для 500 000» показано, как они идут. Видны даже буханки хлеба, которые они держат в руках. Немецкий кинооператор стоял в дверях вагона и оттуда снимал бегущую толпу, спотыкающихся старух, матерей, волокущих за собою детей. Люди бегут с этим хлебом на журналистов из Швеции, которые приехали собирать материалы о гетто, бегут прямо на Ингер, шведскую журналистку, которая смотрит на экран удивленными голубыми глазами, стараясь понять, почему столько людей бежит к вагону, — и тут раздаются выстрелы. Настолько же всем стало легче, когда началась стрельба. Насколько стало легче, когда взметенная взрывом земля заслонила бегущих и их хлеб, а диктор сообщил о начале восстания, что уже можно было вразумительно объяснить Ингер (rising's broken out, April forty three[13])…
Я говорю Эдельману об этом — и еще говорю, что и вправду хорошо придумано с этой стрельбой. Хорошо, что фонтаны земли заслонили людей, — и тут он начинает кричать. Он кричит, что я, должно быть, считаю, будто бегущие в вагон люди хуже тех, которые стреляют. Ну конечно, я наверняка так считаю, ведь так считают все, даже тот американский профессор, который недавно его посетил и твердил ему: «Вы шли на смерть, как бараны». Американский профессор в свое время высадился на французском пляже, пробежал четыреста или пятьсот метров под смертоносным огнем, не пригибаясь и не падая, и был ранен, а теперь полагает, что если кто-то пробежал по такому пляжу, то потом имеет право говорить: «человек должен бежать», или «человек должен стрелять», или «вы шли на смерть, как бараны». Жена профессора добавила, что выстрелы нужны будущим поколениям. Смерть людей, погибающих молча, — ничто, поскольку они ничего после себя не оставляют, а те, что стреляют, оставляют легенду — ей и ее американским детям.