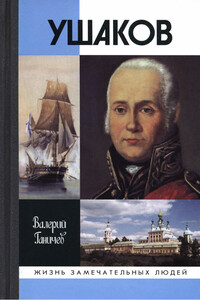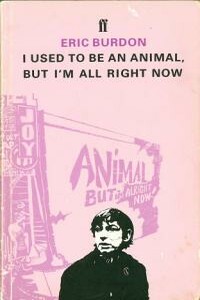Дай оглянусь, или Путешествия в сапогах-тихоходах | страница 24
— Ну ладно,— Панькин оглянулся на дверь.— Я пойду, Колчин...
Он не отошел, а отшатнулся даже, потому что дверь поехала, открываясь.
— Товарищ лейтенант! — послышался голос Перевощикова.— Командир роты!
Лейтенант спрыгнул, доложил. В этом вагоне все было в порядке: все на месте, никто не болен.
— Завтра утром прибываем,— сказал многозначительно командир роты.— Так что...
— Понятно, товарищ капитан,— сказал лейтенант.
Поезд тронулся ночью, когда все уже спали.
Какой же ты, немец, какой?
Какая идея двигает твои ноги, какую пружину завели и вложили в тебя — и ты идешь, как заведенный, как слепой — как механизм, идешь и идешь, послушный какому слову? А твой страх, немец? Что могло пересилить твой страх? Какая идея? А может, не пересилила, и ты несешь его в себе, свой страх?
Ну-ка, где он, твой страх, немец? Где ты прячешь его? Сколько у тебя страха?
Завтра они об этом узнают, а завтра уже скоро— поезд летит, летит навстречу завтрашнему дню, набирает скорость, летит, оторвавшись от всего, что его сдерживало, летит навстречу станции назначения.
Завтра они всё узнают, завтра, когда рассветёт.
Когда рассветёт.
Встреча
Не был я на своей родине ровно двадцать три года, и помнил ее то очень зеленой, то белой, снежной.
Родина снилась мне, и — странно—уже городом с многоэтажными каменными домами, рекламными огнями, уходящими по улице вверх, асфальтом... А оставалась-то она все тем же низеньким деревянным поселком, горсткой домов на краю леса— такой я увидел ее из окна самолета АН-2, пролетавшего мимо,—и сердце сжалось, и я удивился.
Две мои тетки, овдовевшие в войну, широко принимали дорогого гостя. Сообща они купили поллитра «Московской», стол уставили пирогами, испеченными за короткую светлую ночь: с луком, : с творогом, с грибами, ватрушками с картошкой. Сварили уху из консервированной, в томате, щуки.
— А репа,— вдруг вспомнил я,— репа есть?
— Не время еще репе-то,— ответили хозяйки,— К осени репа будет. Забыл уже?
Бревенчатый домик теток разделен на две половины. Стены комнат обиты клеенкой, ее аккуратно, через полметра, прижимают лакированные реечки, как на пароходах, где давным-давно служили их мужья. Увеличенные фотографии мужей подретушированы, видно, одним и тем же фотографом так, что они неотличимо похожи друг на друга: толстые брови, рисованные рты, одинаковые носы.
Самовар.
Чай тетки пили из блюдечка, мелко обкусывая кусочек сахара. Боже мой!.. Я любовался ими.
Разговор, несмотря на столь долгую разлуку, шел, к моему удивлению, вежливый, чинноватый: особого любопытства женщины не выказывали, не ахали притворно, вздергивая брови,— но слушали внимательно, кивали, все понимая; о себе же говорили в очередь и понемногу. Жаловаться было, очевидно, не в их обычае, и о прошлом тетки сказали одну только, общую для них, фразу: «Все было, все пережили». Каково им приходилось, одиноким с 1941 года, я представил.