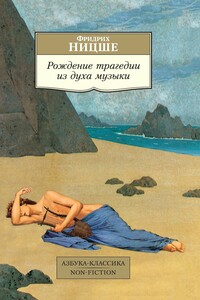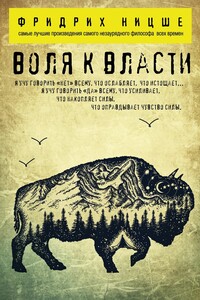Сумерки идолов, или Как философствуют молотом | страница 38
Шопенгауэр. — Шопенгауэр, последний немец, идущий в счёт (ведь он — европейское явление подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гёйне, а не только местное, «национальное»), — это случай первого ранга для психолога: а именно, как озлобленно гениальная попытка вывести в бой на стороне общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании, одно за другим, искусство, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию — то была грандиознейшая психологическая подделка, с какой только встречалась мировая история, если, конечно, не считать христианства. Если вглядеться внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации: с тою только разницей, что вдобавок смог одобрить отвергнутые христианством вещи, великие факты культуры человечества, — всё в том же христианском, т. е. нигилистическом, смысле (именно как пути к «спасению», как предформы «спасения», как stimulantia[50] потребности в «спасении»...).
Рассмотрю один случай. Шопенгауэр говорит о красоте с меланхолическим пылом, — отчего бы так? Потому что он видит в ней мост, который ведёт дальше или возбуждает жажду идти дальше... Она на мгновения освобождает его от «воли» — и манит освободиться от неё навсегда... Особенно ценит он её, как освободительницу от «средоточия воли», от полового влечения, — в красоте он видит отрицание полового инстинкта... Удивительный святой! Кое-кто противоречит тебе, — боюсь, что природа.