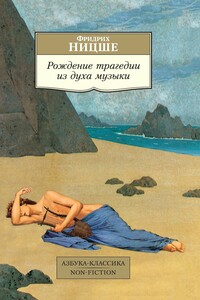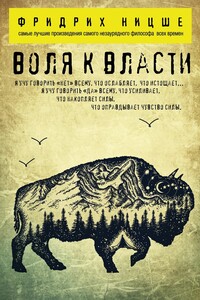Сумерки идолов, или Как философствуют молотом | страница 14
Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т. е. всякая здоровая мораль, подчиняется инстинкту жизни, — какая-нибудь заповедь жизни выполняется с помощью определённого канона о «должен» и «не должен», а какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни с его помощью устраняются. Противоестественная мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, напротив, оборачивается как раз против инстинктов жизни — она оказывается то тайным, а то и явным и даже дерзким осуждением этих инстинктов. Говоря, что «Бог знает сердца»>{40}, она говорит «Нет» низшим и высшим вожделениям жизни и считает Бога врагом жизни... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где начинается «Царствие Божие»...
Предположим, будет осознана вся преступность такого восстания против жизни, которое в христианской морали стало уже чем-то почти священным. Тогда, к счастью, будет осознано также и нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, лживость такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего оказывается ведь в конечном счёте лишь симптомом определённого рода жизни; вопроса о том, справедливо оно или нет, мы этим вовсе не ставим. Надо было бы занимать позицию вне жизни, а с другой стороны, знать её так же хорошо, как один, как многие, как все, кто её прожил, чтобы вообще сметь касаться проблем ценности жизни — достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием вдохновения, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь оценивает через нас, когда мы определяем ценности...>{41} Отсюда следует, что и та противоестественная мораль, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью — какой жизнью? каким видом жизни? — Но я уже дал ответ: нисходящей, ослабленной, усталой, обречённой жизнью. Мораль, как её понимали до сих пор — как напоследок её сформулировал ещё и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», — есть сам инстинкт décadence, обращающий себя в императив. Она говорит: «погибни!» — она есть суждение осуждённых...
Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек должен быть таким-то и таким-то!». Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм, а какой-нибудь несчастный подёнщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть