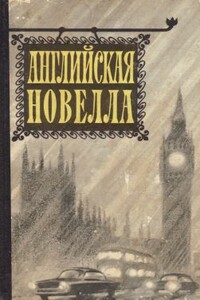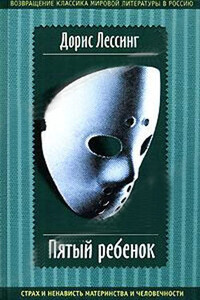Воспоминания выжившей | страница 20
Этот интерьер погружен в пространство детства. Я всматривалась в него глазами ребенка, видела его громадным и неумолимым, однако одновременно сознавала его мелкость и незначительность, ощущая тиранию маловажного, бездумного. Клаустрофобия, духота, нехватка воздуха, нехватка пищи для ума, отсутствие устремлений… И все бесконечно, ибо в детстве конец дня невообразим в его начале, все подчиняется строгим белым часам.
Каждый день — как гора, на которую нужно карабкаться; большие упрямые стулья; громадная, выше головы, кровать; везде помехи, преодолеваемые при помощи больших рук, которые хватают тебя, переносят, подталкивают, подтягивают, рук, которые, если следить за этим малышом на кровати, могут быть нежными и предупредительными. Кроха высоко в воздухе, на руках няньки, кроха смеется. Мать хочет отобрать ребенка у няньки, но та не отдает.
— Это моя лялечка, — приговаривает нянька, — моя прелесть.
— Отдай, отдай, — требует громадная башня-мать; она выше няньки, выше всего в комнате.
— И не дам, не дам, не да-ам, — отвечает нараспев нянька, укачивая ребенка. — Это моя прелесть, а вы займитесь Эмили, мадам.
Нянька отворачивается от матери, загораживая от нее грудничка, а мать натянуто улыбается, и маленькая девочка не воспринимает ее улыбку, зато чувствует грубый рывок и слышит резкий вопрос:
— Почему до сих пор не разделась? Я когда еще тебе велела!
Начинается неприятная процедура стягивания платья, с толчками и царапаньем, с пуговицами, расстегиваемыми грубыми пальцами, с прищемлением кожи. Так не хочется снимать платье, потому что разные голоса его хвалили, говорили, что платье красивое и ей идет. Затем стягивается рубашечка, неприятно дернувшая подбородок. Колготки великоваты, от них попахивает, и мать, принюхавшись, недовольно ведет носом.
— А теперь живо в постельку! — И ночная рубашонка рывком натягивается на тело маленькой девочки.
Эмили заползает в постель возле окна, подтягивается к изголовью, так как кровать для нее велика, оттягивает угол тяжелого бархатного занавеса и смотрит на звезды. Смотрит она и на женщин, которые воркуют над новорожденным. Лицом она напоминает старушку, все понимающую, все предвидевшую, смирившуюся с неизбежным, покорную Времени, сквозь которое она должна протискиваться, пока оно ее не отпустит. Никто здесь ни над чем не властен: ни мать, самая главная, могучая, послушная только времени; ни нянька, у которой было тяжелое детство; ни новорожденный, к которому маленькая девочка уже начинает испытывать обезоруживающую любовь. И сама себе она помочь не в состоянии, поэтому, когда мать, как обычно, раздраженным тоном говорит: «Эмили, спать! Прекрати ворочаться», — она послушно укладывается. Женщины забирают кроху в соседнюю комнату, из которой слышен мужской голос — отец. Малышка поворачивается спиной к жаркой комнате, к детским вещам, сохнущим на каминном экране, подтягивает к себе кисти занавеса и играет с ними. Ее даже забыли взять к отцу, чтобы пожелать спокойной ночи. Играет, играет, играет…