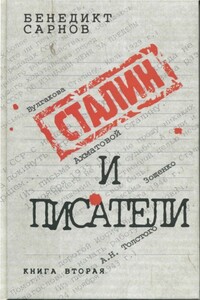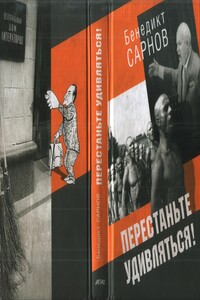Сталин и писатели. Книга третья | страница 65
«Счастливая, у вас есть могила, а у меня и могилы нет...»
Могильный курган в донской степи и должен стать символом вечной памяти о лишенном могилы великом человеке.
(Зеев Бар-Селла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов».М., 2005. Стр. 119)
Высказав это предположение (пока это только предположение), автор исследования замечает, что в этот «корниловский» маршрут не вписывается Муганская степь.
► Она не только к Нагульнову, но и к Лавру Георгиевичу Корнилову никакого отношения не имеет... Но именно эта степь и служит решающим доказательством.
Начнем с того, что ветру, пожелавшему доставить беркута из предгорий Кавказа в Муганскую степь, пришлось бы передуть через Большой Кавказский хребет — 3000 метров над уровнем моря. На такой высоте парят уже не степные беркуты, а горные орлы.
Но наше внимание останавливает «степь». Вот Федор Константинович Годунов-Чердынцев, герой набоковского «Дара», пытается представить себе возможную картину гибели отца:
«Долго ли отстреливался он, припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда <..> приняв за белого шпиона (да и то сказать: с Лавром Корниловым однажды в молодости он объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае)?»
В кругу русских географов исследование Степи Отчаяния (Дашти-Наумед, на современных картах: Дашти-Наумид; правильное написание: Дашт-и-Наумид) — безжизненной соляной пустыни, раскинувшейся между 32-й и 33-й параллелями, считалось самым замечательным достижением Корнилова-путешественника.
Следовательно, в непредвзятом повествовании о Л.Г. Корнилове (принадлежи оно автору «Тихого Дона» или Набокову) вероятнее всего следовало ожидать упоминания именно об этой экспедиции.
Мало того, Степь Отчаяния идеально вписывается во внутреннюю географию текста — «В Муганскую степь ли? В Персию? В Афганистан?», — поскольку находится как раз на границе Ирана и Афганистана.
(Там же. Стр. 120)
Как будто все уже ясно. Но исследователь на этом не останавливается. Чтобы подкрепить неоспоримость этой своей версии, он возвращается к текстологии.
Рукопись, разумеется, пропала. Но каким-то чудом отыскались 155 страниц наборной машинописи с шолоховской правкой. Вот эта правка и привлекла внимание исследователя:
► Подготавливая 34-ю главу к печати, Шолохов сделал в этом месте мельчайшее добавление — вставил невинную частицу «ли»:
«В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?» Цель правки очевидна: еще больше отдалить «степь» от Персии. Но, определив направление редактуры, мы можем сделать и шаг назад — в дошолоховское прошлое текста. Там «Персия» входит не в вялую цепочку однородных обстоятельств места, но служит пояснением к предшествующему наименованию и отделяется от «степи» не вопросительным знаком, а запятой: