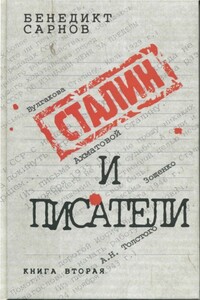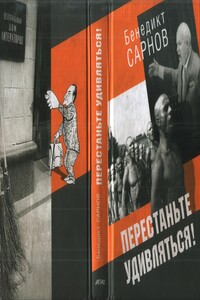Сталин и писатели. Книга третья | страница 63
В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лисовину, для того чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно искрящегося снега ног, волоча покрытое сосульками, почти невесомое брюшко по верхушкам бурьяна, саженей пятьдесят. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя: терпкая кислота свежего птичьего помета и сдвоенный запах пера. Влажное от снега, соприкасающееся с травой перо лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла, это — сверху, а от синего пенька, до половины вонзающегося в мясо, исходит запах теплой и солонцеватой крови...
Никакой типографской ошибки в этот раз не произошло. Ничей чужой текст по вине верстальщика или брошюровщика сюда не вклинился. Но когда сразу за сценой «бабьего бунта», в непосредственной близости к ней тебя вдруг погружают в этот мир звериных ощущений, в эту сложную и острую смесь запахов, обжигающих нюх старого лисовина, испытываешь то же изумление, что испытал Олеша, и поневоле выражаешь его так же, как свое выразил он:
— Что это? Кто это пишет? Шолохов? Нет! Кто же?
И вопрос этот, как и в истории, рассказанной Юрием Олешей, тут тоже не остается без ответа.
Ответ сомнений не вызывает: это, конечно, он — автор «протографа», первоначального текста «Тихого Дона». И на этот раз я не стану повторять классическую реплику Воланда, что тут, мол, не требуется никаких доказательств. Не стану не столько даже потому, что тут без доказательств не обойтись, сколько потому, что такие доказательства, — и весьма убедительные, — у нас имеются.
Поразивший меня отрывок про старого лисовина взят мною из начала тридцать четвертой главы, — как уже было сказано, следующей непосредственно за сценой зверского избиения Давыдова осатаневшими гремяченскими бабами.
Ситуация напряженная. Давыдов еле жив. А тут еще Нагульнов, которого только что на бюро райкома исключили из партии, возвращается домой в мыслях о самоубийстве — единственном, как ему кажется, способе разом решить все свои проблемы. Читателю, естественно, не терпится поскорее узнать, как-то автор развяжет этот, так туго завязанный им сюжетный узел. С тем он и приступает к началу следующей главы.
Вот оно — это начало:
► Сбочь дороги — могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, выцветшие от солнца и непогоди, они простирают над древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былки, даже весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.