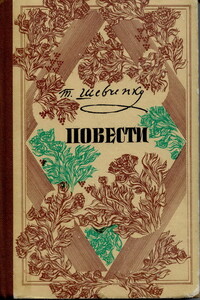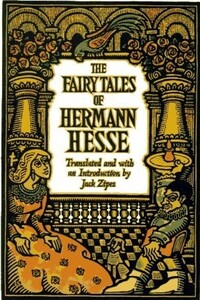Автобиография. Дневник. Избранные письма и деловые бумаги | страница 60
— А що, — говорю я Андрию, — и тоби, мабуть, не спыться?
— Та не спыться, матери его ковинька, — сказал он. Я затрепетал, услыша его чистый, неиспорченный, родной выговор. Я попросил его посидеть трохи со мною, на что он неохотно согласился. Разговор начал я, как это обыкновенно водится между солдатами, спросом, которой земляк губернии и т. д. На мой спрос Андрий отвечал, что он губернии Киевской, повита Звенигородского, из села Ризанои, тут, коло Лысянки, колы чувалы, — прибавил он, а я прибавил, что не тилько чував, а сам бував и в Лысянци, и в Ризаний, и в Русаливци, и всюды. Одним словом, оказалось, что мы — самые близкие земляки.
— Я сам бачу, — сказал он, — що мы свои, та не знаю, як до вас приступыты, бо вы все то з офицерами, то з ляхами, то що. Як тут, думаю, до его пидийты? Може воно й сам який-небудь лях, та так тилько ману пускає.
Я принялся снова уверять его, что я настоящий его земляк, искренно желал продолжать разговор, но пробило три часа, и он ушел топить печь для хлебов и для квасу.
Так началось наше личное знакомство с Андрием Обеременком. И чем далее-более узнавали мы друг друга и более привязывались друг к другу. Но наружные отношения наши остались те же самые, что и в первое наше свидание: он себе не позволял ни одного шагу наружного сближения, ни тени ласкательства, как это делали другие. Подозревая во мне, не знаю почему, богача-земляка и даже родственника коменданта, Андрий наравне с другими верил во все это, но при других он даже не кланялся со мною, чтобы не подумали другие, что он навязывается ко мне в друзья. Местом наших постоянных свиданий было помянутое крылечко, а время — ночь, когда все, кроме перекликавшихся часовых, спало. Невозмутимо холодная, даже суровая наружность его обличала в нем человека жестокого, равнодушного. Но это — маска. Он страстно любит маленьких детей, а это верный знак сердца кроткого, незлобивого. Я часто, как живописец, любовался его темнобронзовой усатой физиономией, когда она нежно льнула к розовой щечке младенца. Это была одна-единственная радость в его суровой, одинокой жизни. Независимо от его простого, благородного характера, я полюбил его за то, что он в продолжение двадцатилетней солдатской пошлой, гнусной жизни не опошлил и не унизил своего национального и человеческого достоинства. Он остался верным во всех отношениях своей прекрасной национальности. А такая черта благородит и даже неблагородного человека. Если мелькали светлые минуты в моем темном долголетнем заточении, то этими сладкими минутами я обязан ему, моему простому, благородному другу, Андрию Обеременку.