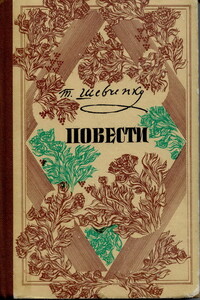Автобиография. Дневник. Избранные письма и деловые бумаги | страница 11
В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли, или оно так есть в самой вещи, только мне не удалось, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то также хвастунишка и вдобавок пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито, злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнята благороднейшая часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительною точностью.
Август-язычник, ссылая Назона>{24} к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать. А христианин Н[иколай] запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин, и христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромнейшее государство в мире, выросло на началах христовой заповеди. Флорентийская республика — полудикая, исступленная средневековая христианка, но все-таки, как материальная христианка, она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Алигиери>{25}. Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального, грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.
Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию? Или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество, и ничего больше. Майор Мешков