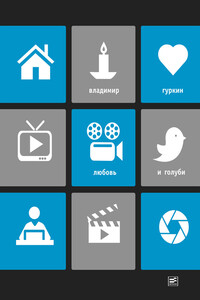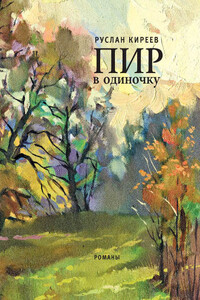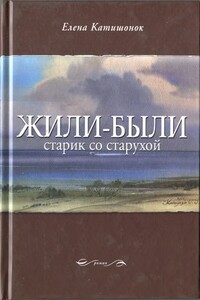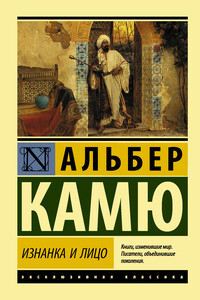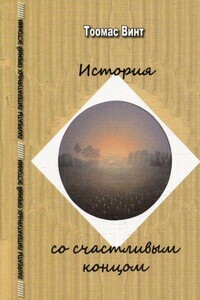Когда уходит человек | страница 44
В кабинете главного управляющего зашторенные окна отсекали июльское солнце. Из-за стола приподнялся сутулый пожилой человек и после нескольких вступительных фраз сначала на французском, а потом по-немецки, передал Мартину конверт — к счастью, открытый.
В конверте лежала записка:
«Ни в коем случае не возвращайся.
Меня задерживают объективные обстоятельства.
Все полномочия у господина Реммлера.
Обнимаю, всегда тобой,
Отец».
Твердая, острая готика отцовского почерка и в особенности эта пропущенная второпях буква так сильно тронули Мартина, что он не поднимал глаз, пока буквы не перестали двоиться. Поблагодарив затем господина Реммлера, он сразу же сбивчиво заговорил:
— Право же, я не могу понять… Вот ведь дошло это письмо! Я телеграфировал, но…
— Банк, — слово упало, как поставленная печать. — У нас свои каналы.
Пожилой человек посмотрел на ошарашенного собеседника, кашлянул и продолжил:
— Если позволите, я хотел бы…
Полномочия господина Реммлера, о которых говорилось в записке отца, заключались в том, чтобы ознакомить Мартина с его финансовым статусом. На банковский счет, некогда открытый отцом, регулярно поступали деньги, вплоть до самого недавнего времени, когда поступления прекратились… в силу объективных причин. На настоящий момент процент с капитала составляет…
Далее шли подробности, в которых Мартин разбирался только до той степени, чтобы осознать главное: даже если война затянется еще на год-другой, основной капитал можно не трогать.
Разрешился вопрос, почему отец выбрал Швейцарию.
Октябрь подходил к концу. Ступеньки пансионата, дорожки парка и площадь пестрели яркими листьями — рыжими, багровыми, желтыми. Над дверью почты горел фонарь. Вырезной буковый лист прилип к латунной рукоятке двери. Мартин осторожно, как бабочку, снял влажный листок и вошел.
Писем не было.
Учитель истории с сомнительной политической платформой — это пятая колонна в советской школе; он выслушал это несколько раз. Необходимость содержать жену и дочерей во внимание не принималась.
Строго говоря, жену и дочь, а не дочерей: одна сбежала с финским моряком. Нужно было привыкать к мысли, что отныне ее содержит кто-то другой. Сестра-наперсница была посвящена в тайну любви и план побега, но названия корабля не знала, как не знала и порта прописки. А если бы и знала?.. Даже под угрозой материнской истерики не могла сказать больше того, что сказала. Оставалась надежда, что беглянка даст о себе знать при первой возможности, то есть когда окажется на берегу. Какой (или, вернее, чей) это будет берег, уже не имело значения. Сейчас ребенок в открытом море, бог знает с кем, а попытка доброго беспомощного заклинания — мол, а вдруг это судьба, да и не ребенок уже, в двадцать-то лет, — извлекла такой яростный вопль из жены, что он первый кинулся за бромом. Капал в чайную чашку — первое, что попалось под руку, — считал капли и сбился, естественно, со счета, но жена, забыв о броме, накинулась на дочь: