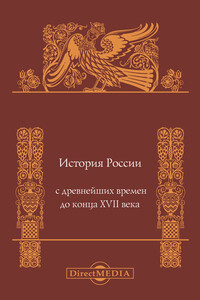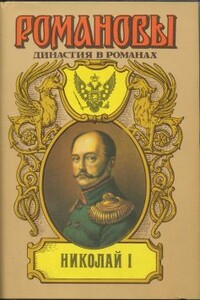Полководцы Древней Руси | страница 39
Нелегко было княгине Ольге. Больше, чем злобное противление племенных вождей и старейшин, тяготило ее непонимание собственной дружины, молчаливое неодобрение самых близких людей — Свенельда, Асмуда, Добрыни, который стал к тому времени всеми уважаемым огнищанином вышгородского двора. Неудивительно, что и сын Святослав смотрит непокорно, бряцает игрушечным мечом, спрашивает явно с чужого голоса: «Князья всегда на войну ходили, почему я не иду? Я ведь тоже князь, все так называют!»
Однако, если бы мужи только роптали да упрекали, еще полбеды. Самые нетерпеливые из них складывали к ногам княгини свои мечи, виновато кланялись и уходили из дружины. Обычай не препятствовал этому. Служба в дружине — дело добровольное, свободный муж в перерыве между войнами волен сменить князя. Уходили и поодиночке, целыми ратями, благо новому греческому царю Константину Багрянородному без конца требовались воины. Византийская империя поглощала всех способных носить оружие, согласных продать свою кровь за золото и нарядные одежды.
Потом до Киева доходили будоражившие завистливое воображение слухи о подвигах бывших Ольгиных дружинников и приобретенных ими на войне богатствах. Шестьсот двадцать девять русских дружинников на девяти ладьях плавали вместе с греками на зеленый остров Крит… Русские и варяги доблестно сражались у крепости ал-Хадас с быстрыми всадниками сирийского эмира Сайв-ад-дауда… Светловолосые и голубоглазые воины в золоченых панцирях стояли в залах и галереях императорского дворца в Константинополе, и им доверяли больше, чем коренным византийцам…
Казалось, даже боги были против княгини Ольги. Зловещие идолы — громовержца Перуна, неукротимого ветряного Стрибога, пугающего своей непонятностью Симирьгла — угрюмо стояли на опустевшем капище. Если не было войны — не было и жертвенных костров, не лилась на камни горячая кровь священных животных и птиц, не кружились в пляске волхвы, заклинавшие богов защитить воинов от вражеских копий и стрел. Скучно было богам, скучно было волхвам. Волхвы предупреждали, что боги недовольны тишиной…
Ольга не любила киевских богов. Они казались ей мрачными, жестокими, корыстными, отдающими милость свою за кровавые жертвоприношения.
На родине, во Пскове, боги были проще и понятнее. Псковичи поклонялись воде, приписывая ей живительную силу, омывали в речных водах тела свои и складывали у журчащих ключей скромные дары, плоды земли и леса. Поклонялись огню, очищавшему человека от дурных мыслей и прогонявшему злых духов. Почитали землю-кормилицу, первооснову всего живущего, и клялись матерью сырой землей на суде, а согрешив, просили у нее прощенья. Почитали священных животных: коня, медведя, кабана, тура, покровителя урожая’— козла. Считали березу чистым и чудодейственным деревом, и девушки-невесты поверяли березе свои нехитрые тайны. Но пуще всего псковичи почитали предков, ставили для домового деда, незримо обитавшего в избе, отдельную чашу, никогда не забывая наполнить ее. Маленьким, вырезанным из березы идолам можно было пожаловаться на неудачу, попросить у них помощи. Можно было отблагодарить идолов, намазав губы маслом или медом, а можно было и наказать за упрямство — высечь прутиком или бросить под лавку в темный угол. Легко было жить с такими богами, не угнетали они человека…