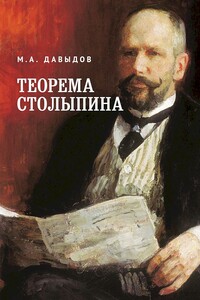Оппозиция его Величества | страница 24
Впрочем, всегда была возможность поправить свои финансовые дела, обратившись к императору. Но вот здесь между нашими героями единодушия не было. Когда Ермолов говорит, что он честолюбив, но почитает честолюбие в том, «чтобы ничего не просить», — это не пустые слова. Его единственная сестра вышла замуж за некоего Павлова, образ жизни которого Ермолову совсем не импонировал: «Кто стыдится бедного своего состояния и, бедность закрывая, делает долги, тот не мой человек. Жить соразмерно способам, хотя бы, впрочем, и скудно, никогда не бесчестно. Так я приближался к старости моей и мне бедностию не упрекали!» Вскоре дела Павловых стали совсем плохи. Сестра прислала Ермолову письмо, в котором «почти упрекала… равнодушием к ее бедственному» положению. «Весьма ясно дает мне уразуметь, что я должен просить у Государя ей помощи и что сие есть единственное средство спасти ее», — пишет он Закревскому, добавляя, что, «приняв награду, а паче выпросив ее», будет считаться и по справедливости неблагодарным, если «не заплатит за оную трудами», а сделать этого он не может и не хочет. «Или должен я принести в жертву свободу мою, угождая прихотливой и нерасчетливой жизни любезного зятя. Что от меня зависело… я исполнил. Теперь предлагаю сестре уделять ежегодно от моего жалования от полутора до двух тысяч рублей» и жить у родственников. Особенно возмутили Алексея Петровича разговоры о том, что его, Ермолова, сестре «не приличествует быть в состоянии столько бедном». Он квалифицирует их как «самолюбивые и нелепые»: «Я доказывал им, что случайно послужившее мне счастье не сделало меня богатым, не вывело нас из состояния, в коем мы рождены. Что не может лежать на правительстве забота о благосостоянии каждого из служащих, что подобной обязанности не могут возлагать на него даже великие люди отечества нашего, не только я, отличных заслуг и подвигов не оказавший. Итак, сам