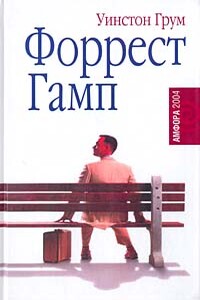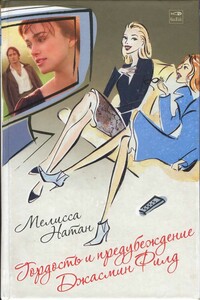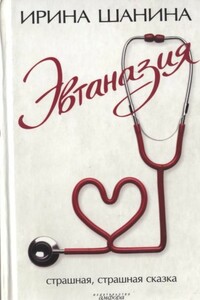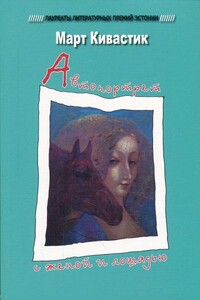Книга рыб Гоулда. Роман в двенадцати рыбах | страница 20
Мистер Ханг ничего утверждать не берётся, хоть я на него сильно надеялся. В тот дождливый вечер, когда мы сидели у горящего камина в «Надежде и якоре», я принялся задавать ему мучавшие меня вопросы; ведь он, единственный из всех знакомых мне людей, хоть как-то разбирался в книгах. Я с нетерпением ожидал, не скажет ли он чего-нибудь, что способно успокоить моё сердце, готовое выскочить из груди. И мистер Ханг неожиданно рискнул высказать предположение, что книги неотделимы от их авторов. Он рассказал (между двумя бокалами перно — ещё одна дань увлечению французской литературой) историю — мне она показалась довольно туманным пояснением его мысли — о Флобере. Преследуемый расспросами, с кого именно он писал мадам Бовари, романист наконец выкрикнул знаменитые слова, в которых мистеру Хангу чудились и раздражение, и восторг: «Мадам Бовари, cest moi!»
После этого поучительного примера из истории французской литературы, который мистера Ханга привёл в волнение и который мы с Конгой, не знакомые ни с французским, ни с литературой, сперва не поняли, а когда тот перевёл («Мадам Бовари — это я!»), поняли не вполне, Конга заявляет, что и она не берётся судить.
— Возможно, — дерзаю ввернуть я, — де Сильва был прав и это всего лишь подделка.
— К чёрту грёбаного де Сильву! — возмущается Конга. Её лицо пылает от гнева и выпивки. — К чёрту их всех!
— Разумеется, — соглашаюсь я, — кто ж в этом сомневается?
Однако на самом деле я сомневаюсь.
Я, помнится, начал с того, что высказал утешительную мысль, будто книга есть язык божественной мудрости, а заключил тем, что, по моему внутреннему ощущению, в книгах написаны одни только глупости и вечный удел их всегда быть превратно истолкованными.
И тут мистер Ханг принимается утверждать, что новая книга вначале может стать новым инструментом постижения жизни — этой подлинной вселенной, — но уже очень скоро превращается в банальное примечание, напечатанное в учебнике словесности мелким шрифтом; её возносят до небес апологеты, презирает нынешнее поколение и не читает никто. Судьба книг трудна, их предназначение абсурдно. Если читатели игнорируют их, они умирают, и, даже если потомки, как римляне в Колизее, поднимут большой палец, книги обречены на вечное непонимание, а их авторов люди сперва обожествляют, а затем демонизируют, за исключением одного Виктора Гюго.
И с этими словами он осушает последний бокал перно и удаляется.
После чего на Конгу накатывает амурное настроение, она подходит ко мне очень близко, наклоняется, практически наваливается на меня, так что мы качаемся вместе, словно на волнах, будто мы одна утлая лодка в лоне бурной стихии. Она воровато суёт руку мне в брюки и стискивает яйца, подобно тому как водитель сжимает грушу клаксона.