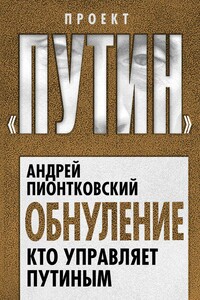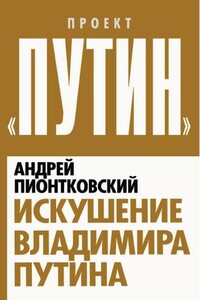Третий путь к рабству. О причинах путинизма и путях выхода | страница 39
Естественной перспективой и кульминацией этого курса виделся отечественным евразийцам визит Цзян Цземина в Москву с заключением судьбоносного Договора о стратегическом партнерстве. И визит состоялся, и договор был заключен, и слова там вписаны громкие и судьбоносные, и даже СУ-30 мы впервые согласились продавать КНР. Но что-то надломилось в едином евразийском порыве нашей «элиты». Ясно, что визит стал не столько апофеозом евразийского взмаха маятника, сколько началом его отката.
Видимо, какие-то вещи за последние год-два виртуальной конфронтации с Западом стали очевидны даже наиболее фанатичным азиопам и наиболее ушибленным антизападникам.
Во-первых, Китай — это кошка, которая гуляет сама по себе вот уже несколько тысячелетий, самодостаточная держава, никакими комплексами, в отличие от российской политической элиты, не страдающая, и ни в каком стратегическом партнерстве с Россией, тем более на антиамериканской основе, не нуждающаяся.
Если эти бледнолицые северные варвары, в свое время навязавшие Срединной Империи несправедливые договоры, почему-то придают такое значение бумажонкам о стратегическом партнерстве и многополярности, то ради бесперебойных поставок самого современного оружия можно эти бумажки и подписать.
Но отношения с США — со своим основным экономическим партнером и политическим соперником — для сверхдержавы XXI века КНР гораздо важнее, чем отношения с Россией, и выстраивая их, китайское руководство будет руководствоваться чем угодно, но только не комплексами российских политиков.
Впрочем, и для России отношения с США, с «большой семеркой», с Западом, может быть, даже еще в большей степени важнее, чем отношения с Китаем. Вообще, все российское евразийство исторически вторично, является функцией обиды на Запад и выполняет для российской «элиты» роль не более чем психологической прокладки в критические дни ее отношений с Западом.
Все эти мотивы великолепно артикулированы в знаменитой блоковской поэме. Страстное объяснение в любви к Европе при малейшем сомнении во взаимности сменяется угрожающим — «а если нет, нам нечего терять и нам доступно вероломство».
При чем тут Китай, Индия, сербские братушки, иракский диктатор или северокорейский говнюк? Все это не более чем сиюминутные поводы, необходимые страдающей маниакально-депрессивным синдромом российской элите для выяснения ее отношений с вечно ненавидимым и вечно любимым Западом. Не к случайному собутыльнику, а к небесам Запада обращен экзистенциальный русский вопрос — «А ты меня уважаешь?» Кто-то оттуда должен заглянуть нашей политической элите в душу и подивиться ее самобытному богатству.