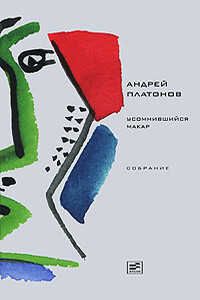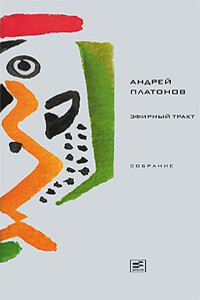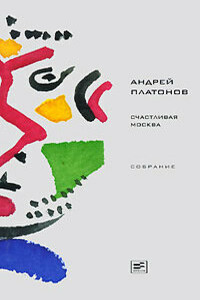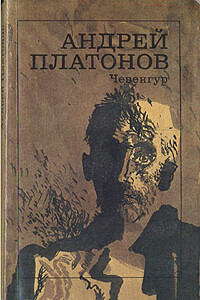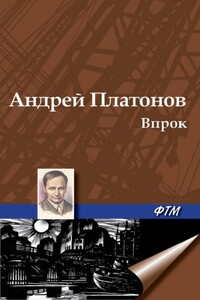Том 8. Фабрика литературы | страница 83
Какова же общая, любимая тема, разрабатываемая А. Грином в большинстве его произведений? Это тема похищения человеческого счастья. Поскольку мир устроен, по мнению автора, роскошно, обильно, фантастически, речь идет именно о похищении кем-то уготованного счастья, а не о практическом, реальном добывании его в труде, нужде и борьбе.
Но ведь мир устроен иначе, чем видит его Грин в своем воображении, и поэтому сочинения Грина способны доставить читателю удовольствие, но не способны дать ту глубокую радость, которая равноценна помощи в жизни.
Удовольствие, которое приобретает читатель от чтения Грина, заключено в поэтическом языке автора, в светлой энергии его стиля, в воодушевленной фантазии. И за одно это качество автор должен быть высоко почитаем. Но было бы гораздо лучше, если бы поэтическая сила Грина была применена для изображения реального мира, а не сновидения, для создания искусства, а не искусственности.
Творчество советских народов
Для ясного понимания наших мыслей по поводу книги «Творчество Народов СССР», изданной редакцией «Правды», требуется вначале договориться, что мы представляем себе под именем критики (не в общем смысле, а в специальном — литературном). Критика, в сущности, есть дальнейшая разработка той идеи, или того человеческого характера, или события, которые открыты и описаны пером автора-художника. Критика является как бы «довыработкой» драгоценных недр, обнаруженных автором, ибо, как правило, за исключением великих художников и народного творчества, в недрах действительности, выработанных первым работником-автором, много еще остается драгоценного материала, оставленного втуне, и этот остаточный материал истинный критик обязан донести до читателя, в дополнение к основному произведению автора. Такую «довыработку» можно понимать и как дальнейшее совершенствование, облагораживание идей первого автора, использование открытых им богатств до конца. Следовательно, в условном смысле, критик представляет из себя как бы второго автора, соавтора, разрабатываемого им произведения. В истории литературной критики бывали примеры, когда именно критик совершал большую работу, чем основной автор, но это случалось потому, что художник не обладал уменьем популярно открыть основную ценность своего произведения, и за него произведение «дописывалось», трактовалось критиком.
Выше мы сказали, что такое применение критики невозможно к народному творчеству и великим писателям. В отношении великих писателей это было бы вполне верно, если бы не существовало также и великих критиков. Возьмем в пример Белинского. Без него многое для нас, читателей, в Пушкине, в Гоголе, в Лермонтове, в Кольцове и в других классиках осталось бы скрытым, неосвоенным, навсегда утраченным. Представив себе всю работу Белинского, мы сразу согласимся, что он, Белинский, есть необходимый, обязательный сотрудник многих русских классиков, их «соавтор». Как известно, Белинский занимался не одним «разъяснением» какого-либо художественного образа (напр., няни или Татьяны Пушкина), он этот образ выводил иногда за пределы, начертанные автором, — выводил уже ради своих целей, ради общественного блага, как оно понималось критиком. И это было творческим совершенствованием Пушкина, распространением его мыслей и образов, как народного добра, а не ухудшением и не «утилизационной» вульгаризацией поэта.