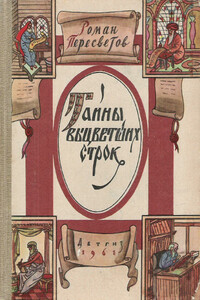Язык и философия культуры | страница 225
Пользуясь таким поводом, мы подвергли более точной проверке наши представления о сущности и методе эстетики вообще, установив, по нашему мнению, что все свои законы она должна выводить исключительно из природы воображения, взятой как таковая и соотнесенной с иными душевными силами, и ради достижения полноты должна описывать двойной круг — объективный круг возможностей эстетических воздействий и субъективный круг возможностей эстетических настроений, то есть, чтобы применить сказанное к поэтическому искусству, она должна представлять и оценивать по отдельности как различные поэтические натуры, так и различные поэтические виды.
Таким принципам мы последовали в своем критическом разборе, и он, безусловно, достиг бы своей цели, если бы мог притязать на значение фрагмента разработанной в таком духе целой теории искусства.
Полная же разработка подобной теории была бы наиболее желательной именно сейчас, — она привела бы в более тесную связь, чем прежде, искусство и моральную культуру, все время сопрягая искусство с человеком и его внутренним существом; никогда еще не б&ло большей потребности в том, чтобы соединять и закреп-
Лять внутренние формы характера, — нежели теперь, когда внешние формы обстоятельств и привычки грозят нам всеобщей, ужасной катастрофой.
Размышления о всемирной истории
Существует ряд попыток рассматривать отдельные рассеянные, как будто случайные события под одним углом зрения и выводить их друг из друга в соответствии с принципом необходимости. Первым наиболее систематично и абстрактно осуществил это Кант; за ним последовали многие другие*. К попыткам такого рода относятся все так называемые философии истории, и стремление создавать исторические системы едва ли не вытеснило саму историю или, во всяком случае, чувство истории.
Однако, не говоря о том, что эти системы не историчны, и уж меньше всего всемирно-историчны, то есть что события толкуются в них произвольно и опускаются целые разделы, если они не соответствуют общему построению, они обычно обладают еще и тем недостатком, что рассматривают человеческий род преимущественно в аспекте его интеллектуального развития, совершенствования индивидов и общества, — развития, которое к тому же часто понимается односторонне, просто как культура, — и не уделяют достаточного внимания связи людей с их почвой и мирозданием, то есть естественноисторическому аспекту их существования.
Тем не менее отказаться от такого рода задачи невозможно. Слишком очевидна связь между событиями, чтобы можно было уклониться от попытки сделать эту связь более ясной там, где она недостаточно отчетливо проступает, привнести ее туда, где она как будто отсутствует. Власть, которую идеи на протяжении веков осуществляют над людьми, слишком очевидна, она заставляет нас верить в то, что все преобразования в судьбах людей подчинены одной великой руководящей идее, придает нам смелость пытаться разгадать ее сущность. И наконец, глубокий интерес у индивида и общества вызывает следующий вопрос: каким будет последующее раз-