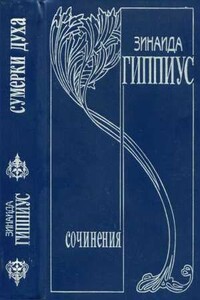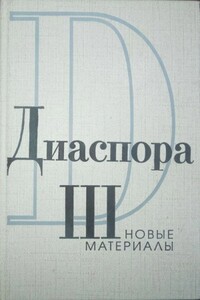Арифметика любви | страница 58
Прыгнул на нее, а в руке нож. Под самым ножом выюркнула она на террасу, да с лестницы кубарем, да по темной аллее бежит, бежит, ног не чуя, и слышит, как тот за ней топочет, настигает совсем… И вдруг натолкнулась она в аллее на кого-то встречного, набежала на него прямо. «Постой, слышь, постой!» и сама не зная как — остановилась. Ночь не темная, и видит — давнишний старичок худенький перед ней, а лицо не суровое, доброе, жалостливое. И уже не сомневается, что это Угодник. Заплакала горько, не рассказывает, что сын на мать с ножом кинулся, — Угодник сам знает. Только слезы льет, ту ночь вспоминает, как роптала, Угодника корила, что не сохранил порученное ему дитя. И уж понятно ей, от какой судьбы хранил он душу дитяти, да и ее, материнскую душу. А старичок в ней как в книжке открытой читает. «Иди, — говорит, — раба Божия, мир тебе». И благословил.
Как благословил — так все и пропало. Открыла она глаза — видит себя на полу, свечи горят, оплывают, цветочками пахнет, на столе младенец под кисеей. И кисея лежит, как лежала, не шевелится…
— Не воскрес? — задыхающимся шепотом промолвил Костя. — Не воскрес?
— Она же, мать, — продолжала Варварушка мерным голосом, — слезами новыми облилась, как поняла Николово это пожаление; пожалел он младенца, ему порученного, и мать пожалел…
— Не воскрес, не воскрес! — заревел вдруг Костя в голос. — А я думал… А он…
Таня всполошилась.
— Ты глупый, не смей реветь! Ты не понимаешь, так ему лучше! А так было бы хуже! Это хорошо, что не воскрес, ему было предопределение…
Она, впрочем, и сама плакала, моргая часто-часто. Ей тоже хотелось, чтоб мальчик не умер, чтоб Никола иначе как-нибудь пожалел и его, и мать, и чтоб предопределения не было.
Всхлипнула и спросила:
— А зачем оно, няня, предопределение?
— Коли вы такие глупые, не буду вам больше рассказывать, — промолвила Варварушка, впрочем, не сердясь. — А без предопределения нельзя.
ПРОШУ ВАС…
Леонид никуда не ходил. К Панкратовым одним, — люди такие добрые и так хорошо отнеслись к нему: без Нестора Ивановича погиб бы, пожалуй. А тот устроил его где-то бухгалтером; работа механическая, на скромную жизнь хватает, даже книги можно на набережной иногда покупать, и вечера свободны: читай, думай.
Книги Леонид читал только старые, без особого выбора и системы: какая приглянется. Современность его как-то не захватывала. А что захватывало еще, — то к современности не подходило.
Был моложав — весь: и лицом, и телом, и душой: точно на двадцати пяти годах остановился и таким дальше жить продолжал, хотя было ему за тридцать. Даже детское мелькало в синих глазах с длинными ресницами. О войне (по молодости прошел одну гражданскую на юге) вспоминал с содроганьем и — с благодарностью Богу, что никого своей рукой не убил. Словом, родись Леонид тремя-четырьмя десятилетиями раньше, — он непременно стал бы толстовцем. У него и взор был такой: человека, прежде всего, честного; до узости, до щепетильности, до мелочности, до упрямства.