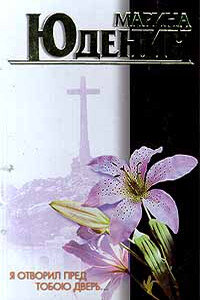Антиквар | страница 17
Что же теперь наступает — день или вечер?
Никак не разберет Иван Крапивин.
Да разве же только это?
Ничего не понимает.
И прежде всего: где он?
Небольшая комната убрана по-барски.
Узкая кровать, на которой лежит Иван, поместилась в нише за тяжелым бархатным пологом.
Такие же шторы на высоком окне собраны у подоконника толстым шелковым шнуром с кистями.
Белье — тонкое, батистовое. Одеяло — теплое, легкое. Не иначе на лебяжьем пуху.
Возле кровати — изящное кресло на гнутых ножках, маленький столик, лампа с расписным, цветного стекла абажуром.
Тщетно силится Иван вспомнить — нет, не бывал он прежде в этой нарядной спальне и не заглядывал даже.
Высокая белая, с золотой виньеткой дверь между тем открывается осторожно.
Чьи-то шаги утопают в мягком ковре.
Легкие шаги, похоже — женские.
И тут же — будто молния полыхнула в памяти — вспомнил Иван.
Закричал.
Крика, однако ж, не слышно — слабый стон разнесся по комнате.
— Душенька, — стонет Иван, — Душенька…
На большее недостает сил — туманится сознание Только видит — женское лицо склонилось над ним Не Душенькино вовсе — простое, немолодое, усталое.
Но — доброе.
— Очнулся, родимый! — восклицает незнакомый голос. И продолжает громче, окликая кого-то:
— Беги, Матреша, к барину. Скажи — ожил художник.
— Душенька…
Иван будто не слышит ничего.
Все — о своем.
— Что, голубчик? Кого зовешь?
— Душенька…
— Бредит, сердечный. Поторопилась я барина звать-то.
Однако — поздно.
Широко распахнулась золоченая дверь.
Другие — тяжелые, уверенные — шаги не смягчил даже толстый ковер.
И голос — низкий, густой — раздался совсем рядом, прямо над постелью больного:
— Пришел в себя?
— Показалось было — пришел. Да, видно, не совсем. Бредит. Все Душеньку какую-то кличет.
— Душеньку?
— Мерещится, поди, кто-то.
— Не мерещится. Девушку балетную вместе с ним экзекуции подвергли. Она не вынесла — умерла, говорят, от первых плетей.
— Ах ты. Господи! Невеста ему была — али как?
— Не знаю, Захаровна. Однако не думаю. Князь за то велел пороть, что вместе их застиг. Портрет актрисы юноша сей вознамерился писать без княжеского дозволения. Карали обоих. Над молодцем, однако, Господь смилостивился — не иначе. На ту пору как я с протекций насчет него явился, художник наш без памяти уж третьи сутки лежал.
— И у нас без малого месяц.
— Ничего. Доктор обещал — выживет.
— Тебе, батюшка, Михаиле Петрович, за добро воздается…
— Не во мне дело. Большой, говорят, талант у нашего подопечного, даже — великий. Потому, полагаю, хранит его судьба.