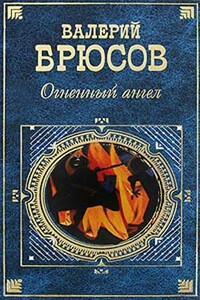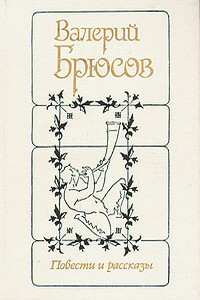Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей | страница 9
В стихотворении «Желание» (1821 г.) есть восклицание:
Те же выражения повторены в заключении «Бахчисарайского фонтана» (1822 г.):
В письме к Дельвигу (1824 г.) Пушкин определенно ставит вопрос: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» Наконец, в последней песне «Онегина», которая писалась уже в 30-х годах, Пушкин, как о чем-то дорогом и любимом, вспоминает, как он вдвоем с «ласковой музой» бродил по крымским берегам.
1908
Гаврилиада
В бумагах Пушкина сохранился такой набросок, относящийся к началу 30-х годов:
Раньше, в 1824 году, Пушкин высказал ту же мысль в письме к кн. П. Вяземскому (8 марта): «Я пишу для себя, а печатаю для денег», и повторял ее не раз в других письмах, в «Разговоре Книгопродавца с Поэтом», в «Родословной моего героя».
И действительно, Пушкин всю жизнь оставался верен этому афоризму: «Пишу для себя, печатаю для денег», притом не только второй его половине, но и первой. Пушкин продавал («бросал толпе, рабыне суеты») лишь «плоды» своего труда, а не самый труд, и в этом смысле называл свою лиру «свободной». Начиная новое произведение, Пушкин никогда не задумывался над тем, напечатает ли он его или принужден будет оставить в своих тетрадях и сообщить лишь близким друзьям. Известно, что даже «Евгения Онегина» Пушкин начал без надежды увидеть его в печати, и тогда писал кн. Вяземскому: «О печати и думать нечего», брату: «Бируков ее (поэмы) не увидит», А. А. Бестужеву: «Если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге».