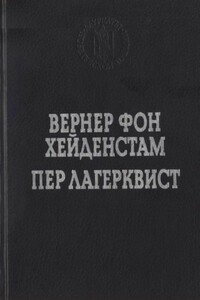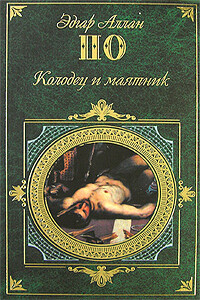В мире гость | страница 41
Андерс надышал на стекло, оно запотело. Он хотел было уйти, но вытер стекло ладошкой и остался. Наст, намерзший поверх сугроба, уже не держал его, и он провалился. Под ногами оказались ветки, прикрывавшие клумбу.
Пришлось подтягиваться, снизу окно заиндевело, и ничего не было видно.
Старик сидел совершенно неподвижно. Наверху говорили, кричали, он не слышал, а может быть, просто не замечал. Читал громко, всегдашним своим голосом, шевеля беззубым ртом. Андерс разбирал каждое слово.
Наконец он захлопнул библию, покрыл ладонью.
— Аминь. Во имя отца, и сына, и святого духа. Укладывая книгу на столик перед постелью, он огляделся и опять заговорил:
— Господь наш разбудит тебя в судный день.
Потом дедушка лег и задул свечу, и тьма как проглотила его.
Андерс вступал в пору юности. Он теперь часто бродил по городу и далеко по округе с друзьями, один. Дома ему стало так тяжко. Общность домашних сковывала, связывала по рукам и ногам. Все тут было единое, неразрывное, ненарушимое. Старая мебель, самый воздух комнат, самый дух, и эти половички, тканые в деревне у бабушки, и те, кто ходит по ним. Стоило отворить дверь, поздороваться — и он оказывался дома, и всегда это бывало одинаково. И так же одинаковы были вечера вокруг лампы, за ужином: невысокое пламя лампы, и хлопоты сестер, и шум поезда за окном — все всегда неизменно, из вечера в вечер. А отец с матерью всегда читали библию серьезными строгими голосами. От этого теснило грудь. Но ведь такой мир был во всем этом, такой покой! Так отчего же теснило грудь?
Все у них было общее, все схожее. Уютная комната, отделенная от всего мира. Заведенный, неизменный порядок. Неизменная жизнь!
Это был род, семья, а ему уже хотелось вырваться, отделиться, оторваться, стать самим собой!
И он начал от них отделяться.
Совершалось это втайне. Никто ничего не замечал. У них у всех в семье редко что выходило наружу, только таилось в глубине и чувствовалось. И Андерс был такой же.
То, что совершалось, было грубо, как роды. И те же, как в родах, страх и муки, и тревога за новую слабенькую жизнь, и за старую. И боль разрешенья от бремени и оттого, что что-то меняется… Зачем?
Звери, чувствуя предродовые схватки, забиваются в свои норы, ищут, где потемней, стонут там, в укромности, в муках перегрызают пуповину. А слепой выводок чует впитываемую землей кровь…
Каждый принадлежит роду. Зачем?
Он мучился от того, что совершалось в нем. Прислушивался к малейшей перемене, чтоб ничего не пропустить. Он мучился и наслаждался…