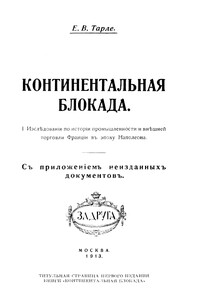Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг. | страница 85
Прежде всего отметим, что все четыре канцлера, занимавшие этот пост между отставкой Бисмарка и началом мировой войны, т. е. и Каприви (1890–1894 гг.), и князь Гогенлоэ (1894–1900 гг.), и Бюлов (1900–1909 гг.), и Бетман-Гольвег (1909–1917 гг.), были в сущности орудиями и исполнителями воли императора, точнее — мысли стоявших за ним лиц, вроде барона Фрица фон Гольштейна, Эйленбурга и др. И именно в области внешней политики эта воля не имела ни малейшего противовеса в рейхстаге. Ведь единственным формальным поводом говорить о внешней политике было для рейхстага обсуждение бюджета министерства иностранных дел, да и то никаких резолюций, одобряющих или порицающих эту политику, рейхстаг по выносил. Вильгельм был на редкость лишен каких бы то ни было дипломатических способностей, это знали твердо и в Германии и в Европе, но сам император еще и теперь об этом не догадывается и из своего голландского уединения продолжает обвинять в ошибках кого угодно, но только не себя самого. Его попытки обмануть контрагентов поражали своей наивностью, прозрачностью и аляповатостью. Он всегда представлял себе противника (или «друга», все равно) гораздо глупее, чем тот был в действительности. Если, например, прочесть его письма и телеграммы к Николаю II, то можно поразиться, как наивно Вильгельм подделывается под предполагаемые им свойства русского императора: суеверие, страх перед революцией, нерасположение к республиканской форме правления во Франции, веру в теорию божественного происхождения царской власти и т. д.; как, например, он намекает, что им с Николаем можно беседовать по душе, ибо они оба получили власть от господа, а вот с каким-нибудь президентом Лубэ нельзя, так как Лубэ — человек обыкновенный, и т. п.: как будто действительно можно было расторгнуть или ослабить франко-русскую комбинацию этими соображениями.
Второй его характерной чертой (как дипломата) было доходящее до курьеза преувеличение значения разных внешних мелочей и пустяков, которые в дипломатическом обиходе еще могут иной раз подчеркнуть значение какого-либо уже состоявшегося соглашения или иного акта, но никогда не в силах создать новую дипломатическую ориентацию сами по себе. Вильгельм, например, искренне возмущался, когда после ряда любезных его визитов запросто к французскому послу, после двух-трех ласковых тостов, после внезапного посещения французского учебного военного судна и т. п. никаких изменений в пользу Германии во французской политике не воспоследовало. Он преувеличивал в связи с этим значение личных отношений. Неслыханно горячий, прямо восторженный прием Рузвельта, посетившего (уже в отставке) Берлин, долженствовал укрепить отношения Германии и Соединенных Штатов, а в эпоху мировой войны Рузвельт оказался одним из влиятельнейших и самых решительных агитаторов в пользу — сначала войны Штатов против Германии, а потом — полного разгрома Германии. Но самым роковым свойством Вильгельма (в этой области) была нетерпеливость, быстрая раздражительность, столь же быстро сменявшаяся растерянностью и внезапной уступчивостью, неумение держать себя в руках настолько, чтобы хоть как-нибудь замаскировать свое настроение. К этому всему прибавлялось довольно большое невежество и непонимание действительности. Достаточно вспомнить, что он в августе 1914 г. требовал, чтобы германские консулы разожгли среди магометан всего мира немедленную «священную войну» против англичан, и пресерьезно верил в это. Он, впрочем, и не хотел знать фактов, которые ему были неприятны: эту черту отмечают довольно единодушно все, приходившие с ним в соприкосновение. Роль канцлеров была в течение всего этого периода только ролью докладчиков. Но тут же отметим, к слову, что в 1890–1907 гг. за спиной императора стояло одно лицо, громадная роль которого только сравнительно недавно вполне выявлена, — барон Фриц фон Гольштейн, скрывавшийся в тени в качестве директора в министерстве иностранных дел. Этот человек, очень работоспособный и дельный, в сущности и составлял доклады, представлявшиеся канцлерами императору, и, в совершенство изучив натуру Вильгельма, искусно подсказывал императору его резолюции, подсказывал самим построением доклада. В 1925 г. выяснилось документально, что Гольштейн вел широкую биржевую игру и был в постоянных сношениях с биржей; он отражал в своих воззрениях интересы наиболее агрессивно, завоевательно настроенных сфер крупного капитала. Он был очень важной, хотя и скрытой пружиной, посредством которой капитализм создавал империалистскую внешнюю политику. Это — только деталь, конечно. Империалистская, агрессивная тенденция в германской внешней политике была неизбежна.