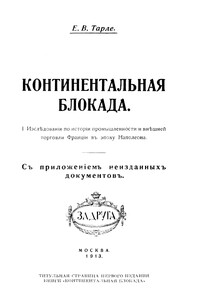Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг. | страница 78
Вильгельм, конечно, не посмел бы посягнуть на Бисмарка, если бы обстоятельства ему не благоприятствовали в этом. Среди крупнокапиталистических кругов Бисмарк утратил часть своей популярности вследствие отмеченной выше сдержанности в деле приобретения новых колоний; среди социал-демократов, в рабочем классе его ненавидели за закон против социалистов; могущественная в рейхстаге католическая партия центра не забыла ему былых гонений против католического духовенства. Словом, были налицо такие сильные течения против Бисмарка, что Вильгельм наконец отважился довести ссору до разрыва. 17 марта 1890 г. Бисмарк подал в отставку. Последние 8 лет своей жизни он провел в имении, не переставая следить за политической жизнью, и часто весьма зло критиковал действия Вильгельма.
С этой поры и начинается «вильгельмовская эра» германской истории — «die wilhelminische Aera», как ее называют немецкие историки и публицисты.
Нужно сказать, что в области внутренней политики отмеченные выше свойства Вильгельма не принесли и не могли принести таких гибельных результатов, как в области политики международной. Начать с того, что в области внутренней политики настоящего вызова на бой он за все свое царствование не сделал: он очень много говорил о том, что он ни перед кем, кроме бога, не ответствен, что он один только распоряжается в Германии и не потерпит никого рядом, что «так хочу, так приказываю, да будет вместо рассуждения моя воля» (sic ѵоіо, sic jubeo, sit pro ratione voluntas) и т. д. Но он только на словах разыгрывал из себя самодержца. На деле же он за все тридцать лет царствования ни разу не посмел нарушить конституцию. Решиться же на то, на что, например, решился 2 декабря 1851 г. во Франции Луи-Наполеон, т. е. на государственный переворот с целью водворения самодержавия, Вильгельм никогда не смел и помыслить. Изредка с правых скамей рейхстага слышались слова об отряде гренадер, которые могут легко справиться с оппозицией, но никогда само правительство даже и угроз таких не пускало в ход, если не считать слов канцлера Бюлова уже в 1900-х годах, что «за Робеспьером всегда следует сабля Бонапарта» (он это сказал в 1906 г. по адресу социал-демократов). Это не значит, конечно, что самые речи Вильгельма с назойливым подчеркиванием симпатий к самодержавию не раздражали часть буржуазии. Раздражал также нелепый и навязчивый культ памяти Вильгельма I, которого Вильгельм II переименовал ни с того ни с сего в «Вильгельма Великого», причем и тут главной (явственной) целью этого культа было поддержание монархических и династических симпатий. Этого посредственного, сдержанного, по-своему честного и скромного человека, своего деда, Вильгельм II называл истинным основателем империи, а Бисмарка — лишь исполнителем державной воли «Вильгельма Великого». При Вильгельме II официальной доктриной сделалась теория, изложенная канцлером империи Бетман-Гольвегом в ноябре 1910 г. в рейхстаге, в ответ на запрос социал-демократа Ледебура по поводу одной речи Вильгельма: прусский король вовсе не ответствен перед народом, потому что не народ, а Гогенцоллерны