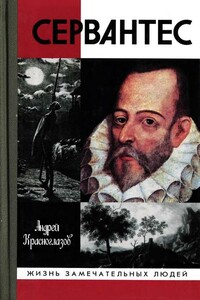Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений | страница 31
Встревожился бабай, как бы зря в сторону не отбиться. Свою дорогу упустили, и придется им теперь до первых изб добираться, покормить да разузнать, как способнее обратно податься на тракт. Выехали с рассветом, а время уже давно за обед перевалило. Примаялся конек, мокрый весь сделался, едва нахлестали к далеким петушиным призывам, к собачьему гавканью.
Домики грибным семейством притаились в овраге, на их коротких срубах взгромождены пышные шапки снега. Выглядела улочка непроторенной. Казалось, зазимовало, законсервировалось становище с неведомых времен.
В прибранных сенцах приезжие сухим полынным веником отряхнули пимы, разделись, и пригласила их пухлотелая старушка в горницу, вихрастой внучке велела самовар ставить, а сама опять за пряжу села. Чем-то древним пахнуло от длиннот ее голоса, отвечала на расспросы обстоятельно, ласково, всё будто забирала сливочное масло щербатым ножом прямо из туеска и обильно уснащала аржаную речь — «покушай, дескать, родименький, нашего хлеба-соли».
Русская печь белела, точно гипсовая; под ногами стлались крашеные половицы, и во всем гнездился непоколебимый покой. Тишала горница сказочным зачином, а принявшийся самовар уже тоненько выводил:
«В некоем царстве, в некоем государстве…»
— Старик мой хаживал, как же, и лабазы ладил, — напевала хозяйка, — а вот давеча гость-то к нам под окошко приходил. Слыхать — возится, навалился кто-то. Скрипят наличники. «Кому быть?» — думаю. Наутро вышла я, следу босого наворочено, не приведи Господи. Приклонилась и вижу: всё с когтями пришлепывал и наличник поцарапал. Как мужик, в избу заглядывал. Много у нас зверя этого. О прошлом годе мой-то с Миколаем, зять ему будет, на берлогу ходили…
Время шло по-медвежьи, вперевалку. Под линялым повойком сладким испугом морщилась старушечья память. Пряжа сучилась и покачивалась, наплывали одутловатые ситца, будто налитые теплым тестом.
Самовар ныл:
«Я на липовой ноге, на березовой клюке…»
– Кто тама? – окликнула бабушка.
Горница затаила дыхание. В окнах насторожились лиловые тени. Дверь скрипнула и широко отвалила березовую челюсть. А через мгновенье, ломай кости, рухнул фантастический сказ, полный страхов и жадных мечтаний о подвигах безвестной старухи. Неустрашимым реализмом ввалился и сорвал шапчонку с потных кудрей представитель нового поколения. От самых дверей несся, сокрушая затихшие бабушкины древности, его восьмилетний мужественный голос.
– Опять, бабка, избу не освежила, несознательная ты. Протухнем с тобой без воздуху, полезай на печь, дверь открою, — командовал он.