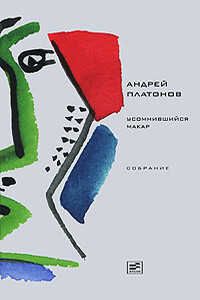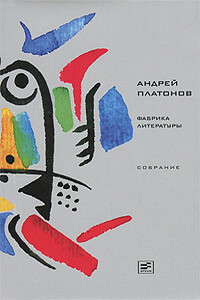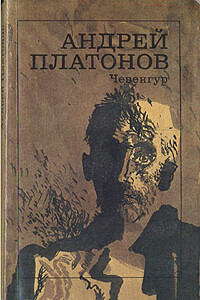Том 4. Счастливая Москва | страница 58
— Ну что теперь будешь? — спросила Москва.
— Умру, — согласился Комягин. — Жить не приходится. Отнеси завтра в отделение милиции книжку штрафных квитанций — тебе рублей пять процентов очистится: станешь кормиться после меня.
Он лег затем на что-то и умолк.
Вскоре Москва снова прошептала вопрос:
— Ну как, Комягин? — Она его звала по одной фамилии, как чужого. — Ты опять спишь, а потом проснешься?
— Едва ли, — ответил Комягин, — я сейчас задумался… Что, если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингиз-ханом быть! — Кончай свой разговор! — рассердилась Москва. — Авантюрист! Время себе у государства воруешь!
— Нет, — отказался Комягин и нежно произнес: — Мусь, поласкай меня, я тогда скорей исчахну, к утру ангелом буду — умру.
— Я тебя вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!
— Ну кончено, кончено! Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить — ты не ругайся, я ее вспомню срочно.
Наступило молчание, пока в уме Комягина очередью проходили долгие годы его существования.
— Вспомнил? — поторопила вскоре Москва.
— Нечего вспоминать, — сказал Комягин. — Одни времена года помню: осень, зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму… В одиннадцатом и двадцать первом году лето было жаркое, а зима голая, без снега, в шестнадцатом — наоборот — дожди залили, в семнадцатом осень была долгая, сухая и удобная для революции… Как сейчас помню!
— Но ты же много любил женщин, Комягин, это, наверно, твое счастье было.
— Какое тебе счастье в человеке вроде меня! Не счастье, а бедность одного вожделения! Любовь ведь горькая нужда, более ничего.
— Ты ведь не очень глуп, Комягин!
— По-среднему, — согласился Комягин.
— Ну довольно, — сказала Москва ясным голосом.
— Довольно, — так же сказал Комягин.
Они снова умолкли, уже надолго. Сарториус равнодушно ожидал за дверью жилища, пока Комягин погибнет, чтобы войти в комнату. Он чувствовал, как у него начинают болеть глаза от тьмы и долгого мучения сердца.
Наконец Комягин попросил, чтобы Муся укрыла ему голову одеялом потуже и обвязала пониже то одеяло бечевой, чтоб оно не сползло. Москва сошла с кровати деревянной ногой и укутала Комягина как нужно, затем улеглась обратно со вздохами.
Ночь длилась как стоячая. Сарториус сел на пол в усталости: еще никто не проснулся в коридоре, утро еще находилось где-нибудь над зеркалом Тихого океана. Но все звуки прекратились, события, видимо, углубились в середину тел спящих, зато одни маятники часов-ходиков стучали по комнатам во всеуслышание, точно шел завод важнейшего производства. И действительно, дело маятников было важнейшее: они сгоняли накапливающееся время, чтобы тяжелые и счастливые чувства проходили без задержки сквозь человека, не останавливаясь и не губя его окончательно.