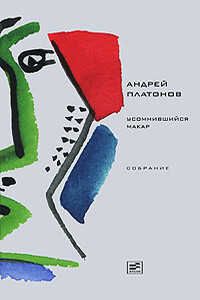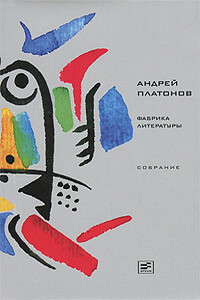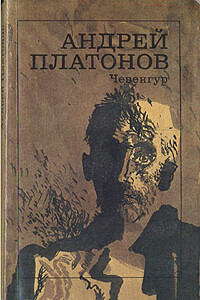Том 4. Счастливая Москва | страница 51
Однажды в апреле, уже вечером, когда в клинике нужно было спать, Честнова услышала где-то далеко игру на скрипке. Она прислушалась и узнала музыку — это играл скрипач в том недалеком жакте, где жил Комягин. Изменяется время, жизнь и погода — наступала весна, кооперативный музыкант играл еще лучше, чем прежде: Москва слушала и воображала ночные овраги в полях и птиц, летящих в нужде сквозь холодную тьму вперед.
Днем, как обычно, Москву часто навещали ее подруги по прошлой работе в земле; после операции приходил два раза треугольник шахты метрополитена и приносил ей торты в коробках за счет профсоюза.
«Выздоровлю, пойду замуж за Комягина, — думала Москва по ночам, слушая, как распространяется в огромном воздухе музыка жактовского скрипача. — Я теперь хромая баба!»
Ее выписали в конце апреля. Самбикин принес ей новые прочные костыли — на весь долгий путь остающейся жизни. Но идти Москве было некуда, она жила до больницы в сорок пятом общежитии метростроя, а теперь то общежитие куда-то перевели, она не знала.
Самбикин, открыв дверь автомобиля, ждал адреса, куда ее везти, но Москва улыбалась и молчала. Тогда Самбикин повез ее к себе.
Через несколько дней, не дожидаясь окончательного заживления раны на ноге Москвы, Самбикин уехал с нею на Кавказ, в дом отдыха на черноморском берегу.
Каждое утро, после завтрака, Самбикин провожал Москву на берег шумного моря, и Москва часами смотрела в невозвратное пространство. «Уйду, уйду я куда-нибудь», — шептала она одно и то же. Самбикин молчал близ нее, его внутренности болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы. Самбикин стыдился такой своей жалкой жизни; в мертвые послеобеденные часы он уходил в горную рощу и там бормотал, ломал сучья, пел, умолял всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и работоспособность, ложился в землю и чувствовал, как все это неинтересно.
Возвращаясь к вечеру, Самбикин зачастую не мог даже добраться до Честновой, настолько она была окружена вниманием, заботой и навязчивостью полнеющих на отдыхе мужчин. Уродство Москвы теперь было мало заметно — ей привезли протез из Туапсе и она ходила без костылей, с одной тростью, на которой все, кому Москва нравилась, уже успели вырезать свои имена и даты и нарисовать символы безумных страстей. Разглядывая свою трость, Москва понимала, что надо удавиться, если бы рисунки были искренними: знакомые люди рисовали в сущности только одно: как бы они хотели рожать от нее детей.