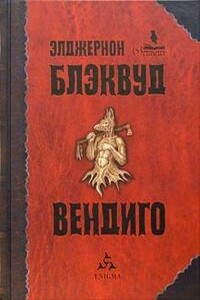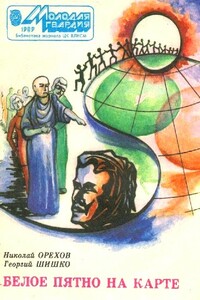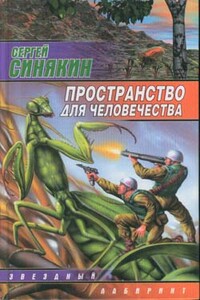«Если», 1994 № 09 | страница 25
Рагу начинало кипеть, когда я услышал, что он зовет меня с берега. Я и не заметил, как он ушел; а сейчас побежал к нему.
— Иди-ка сюда, — говорил он, держа ладонь у самого уха. — Послушай и посуди, что тут такое.
И, глядя на меня с любопытством, прибавил:
— Теперь слышишь?
Мы стояли и слушали. Сперва я различал только гулкий голос воды и шипение пены. Ивы застыли и затихли. Потом до меня стал доноситься слабый звук, странный звук, вроде далекого гонга. Казалось, он плывет к нам во тьме от дальних ив, через топи. Прерывистый — но не колокол и не гудок парохода. Я ни с чем не сравню его, кроме огромного гонга, звенящего где-то в небе, непрестанно повторяя приглушенную и гулкую ноту, мелодичную и сладостную. Сердце у меня забилось.
— Я весь день это слышу, — сказал мой спутник.
— Когда ты спал, звенело повсюду, по всему острову. Я искал и гадал, но никак не мог найти, откуда эти звуки. То они были наверху, то внизу, под водой. А раза два звенело внутри, во мне самом, понимаешь… не снаружи, а словно бы в другом измерении.
Я слишком растерялся. Мне все не удавалось отождествить эти звуки с чем бы то ни было знакомым. Они ускользали, приближались, терялись вдалеке. Я не назвал бы их мрачными, скорее они мне нравились, но должен признать, что они чем-то удручали, и я был бы рад, если бы их не слышал.
— Ветер воет в песчаных воронках, — сказал я, чтобы как-то все объяснить, — а может, кусты шумят после бури.
— Они идут с болота, — отвечал мой друг, пренебрегая моими словами. — Они идут отовсюду. Вроде бы из кустов…
— Ветер утих, — возразил я. — Ивы не могут шуметь, правда?
Ответ меня испугал — и потому, что я именно его боялся, и потому, что я знал чутьем: так и есть.
— Мы потому и слышим их, что ветер утих, — сказал он. — По-моему, это плачет…
Я отпрянул к костру: судя по запаху, стряпня моя была в опасности.
— Иди сюда, нарежь еще хлеба, — позвал я друга, бодро помешивая варево. Трапезы сохраняли нам душевное здоровье.
Он медленно подошел к дереву, снял мешок, заглянул в его потаенные глубины и вывалил все, что там было, на полотнище брезента.
— Тут ничего нет! — заорал он, держась за бока.
— Да хлеба! — повторил я.
— Нет. Нет здесь хлеба. Забрали!
Уронив поварешку, я кинулся к брезенту. На нем лежало все, что было в мешке, но хлеба я не увидел.
Страх всею тяжестью упал на меня, я покачнулся — и расхохотался. Что же еще оставалось делать? Услышав свой смех, я понял, почему смеется мой спутник — от отчаяния. Замолчали мы тоже внезапно, оба одновременно.