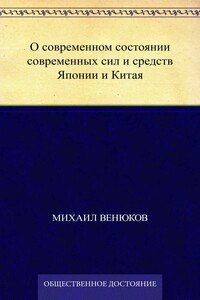Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии | страница 76
— А ведь наш амбань, пожалуй, не уступит айгунскому, — говорил в то время Будогосский. — Только собольего хвоста на шляпе нет, и павлиные перья заменены петушьими, по достоинству лица. Впрочем, на что ему чужой пушистый хвост, когда есть свой, от природы? (Замечание небезосновательное, но только немного странное в устах Будогосского в то время, когда он уже был в наилучших отношениях с Буссе, ухаживал за ним и, конечно, не без его содействия назначался в пограничные комиссары для установления границы в Уссурийском крае, что доставило ему чин полковника и 500 рублей пенсии на службе.)
Как губернаторствовал Буссе на Амуре, я уже отчасти намекнул, говоря о судьбах «Амурской компании», у которой он отбирал лодки или которую вводил в убытки заказами для Благовещенска пожарных инструментов и фонарей, за которые нечем было платить; но, не быв сам свидетелем этой искусной административной деятельности, не хочу о ней судить. Сочинения Максимова, Завалишина, отчеты комиссии адмирала Сколкова и другие источники, кажется, уже сказали достаточно.
По отъезде Буссе на Амур его заменил в Иркутске Б. К. Кукель, тоже не офицер Генерального штаба, а казак, прошедший, впрочем, кажется, через инженерное училище. Это был очень ловкий, находчивый и усердный чиновник, умевший понравиться не только Н. Н. Муравьеву, но и Д. А. Милютину >{1.69}, который считал его одним из лучших начальников окружных штабов. Я хорошо помню, как первый был доволен присланным ему в 1857 году, на Усть-Зею, к подписи проектом рапорта военному министру о вооружении забайкальских казаков.
— Хорошо написано, толково, складно и ничего лишнего; видно перо Кукеля.
И вот, чтобы выдвинуть способного редактора официальных бумаг, Муравьев не затруднился выхлопотать ему в одном и том же году два чина и место начальника штаба, с сохранением притом звания члена Совета Главного управления Восточной Сибири, что давало в сумме до 6000 рублей годового содержания на 28—29 году жизни и на 10—11-м службы. Кажется, что из всех созданных Муравьевым карьер эта была самая блестящая, разумеется после корсаковской. И, говоря сравнительно, она не была оскорбительной для других, но если спросить серьезно, безотносительно, что же сделал Кукель для военного управления в Иркутске, для войск Восточной Сибири, для забайкальских и амурских казаков и для переселенцев на Амуре, судьбы которых были несколько лет сряду в его руках, то придется сказать: не много хорошего. По регулярным войскам в штабе у него были такие беспорядки, что преемник его, Черкесов, нашел в каких-нибудь шести батальонах пятьсот одиннадцать солдат безвестно отсутствовавших, о чем генерал-губернатор Синельников и доносил государю. Это были люди, которых Кукель и его штаб просчитывали, так что правительство отпускало на них одежду, амуницию и продовольствие, но где они были, что делали и даже чем в действительности питались — не знаю. За такие беспорядки, нет сомнения, в любой европейской армии начальник штаба был бы предан суду, а у нас Кукель спасся, потому что умел «влезть в душу», сначала Муравьеву, потом Корсакову, и за ними уже скрывался от всякой ответственности. Казаки забайкальские своим разорением также обязаны, после Корсакова, больше всех Кукелю: ведь он был начальником казачьего отделения в Главном управлении и хозяйственная часть войска была на его попечении. Никогда, разумеется, ему не приходило на ум от красно писаных бумаг о колонизации Амура и о приготовлениях к ней переходить к действительности и отвечать на вопрос: а посильны ли казакам возлагаемые на них натуральные повинности и издержки всякого рода? Да не приходило не потому, чтобы не могло прийти по свойству голоса, а потому, что взвешивать гласно казачьи нужды было нерасчетливо и могло повлечь потерю расположения свыше, чего Кукель никак допустить не мог… «Лови счастье, пока оно дается и «après nous le dèluge»