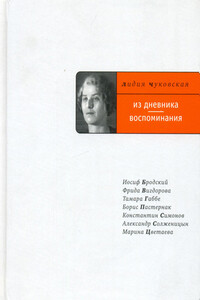Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966 | страница 25
Затем новелла об одесской старушке. Остановила прохожего на улице: «Я очень извиняюсь, конечно, что вмешиваюсь в вашу интимную жизнь, но вы случайно не Файнштейн?»
Посмеялись. Помолчали. Потом Константин Георгиевич стал просить Анну Андреевну читать стихи.
– Меня душит смех, и я очень извиняюсь, конечно, но я, кажется, согласна, – сказала Анна Андреевна.
Она прочла нежную «Предвесеннюю элегию» и воинственную, громогласную, трагическую «Какая есть. Желаю вам другую. – / Получше…». Один из образцов державинско-тютчевской линии в ее поэзии. Интонация ораторски-обличительная с примесью горечи. Оба стихотворения – и нежное, и угрожающее – прочла она тихим, глубоким голосом. (Слушая «Какая есть…», я подумала, что, быть может, я одна на всем свете понимаю, почему стихотворение написано именно тогда и чем вызваны строчки «О, что мне делать с этими людьми» и «Придется мне напиться пустотой»[35].)
Константин Георгиевич поблагодарил и поднялся. Перед уходом упомянул совершенно мельком: в Париже, в газете «Русские новости», он видел объявление магазина русских книг – там продаются «стихи Анны Ахматовой». На машинке.
Лучше бы он этого не говорил: Анна Андреевна сильно встревожилась. Какие стихи, что за стихи? Он не видел, какие. И почему на машинке?
Он ушел, вскоре ушла и Эмма, а меня Анна Андреевна оставила.
На столе два зеленые изящные томика – подарок Паустовского. Я раскрыла первый>37. Надпись: «Анне Андреевне Ахматовой, лучшей поэтессе мира, наследнице Пушкина».
– Этой пластинки я не люблю, – сказала Анна Андреевна. – А от вас жду отчета о «Софье».
И взглянула на меня пристально.
Мне рассказывать не хотелось. Я знала, что не доставлю ей радости. Но рассказала. И про «парочку месяцев», и про рисунки, которые я уже держала в руках, и про Козлова>38.
– Итак, – сказала Анна Андреевна, – ни «Реквиему», ни «Софье Петровне» не увидеть света. «Не следует тащить мертвецов на страницы советских книг» по меткому выражению товарища Соколова>39. И «это всё правда, но она не укрепляет советский строй».
Очень страшно прибавила:
Это уже не об убитых, а о памяти нашей. Убийство памяти.
– Как вы думаете, – спросила Анна Андреевна, – там, в Париже, в книжном магазине, мои стихи – это «Реквием» или что-нибудь другое?
Я решительно ничего не могу по этому поводу думать, потому что не знаю, что за газета и что за магазин, и почему в книжном магазине продается машинопись, а не книжка? Но полагаю: если бы «Реквием» – название было бы указано и Паустовскому оно бросилось бы в глаза.