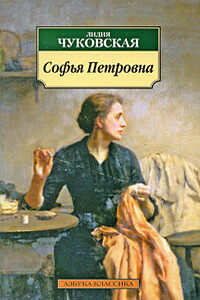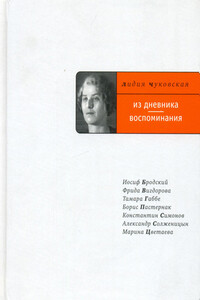Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966 | страница 21
– Нет, Лидия Корнеевна, мне не дойти. Временное ли это ухудшение, или так и будут теперь изо дня в день, из недели в неделю – падать, падать силы? Я ее усадила на веранде. Помню, как еще недавно она и по лестнице Дедовой поднималась к нему в кабинет на второй этаж, а сейчас, когда она пожелала вставить новую строфу в «Решку», Корней Иванович сам принес ей сверху свой экземпляр «Поэмы»: подняться она не могла.
Прежде, чем вписать новую строфу в экземпляр «КИЧ», Анна Андреевна нам ее прочитала. Так я услышала «века – Эль Греко» во второй раз. Опять я не совсем поняла, зачем эта строфа тут нужна, тем более – или тем менее! – что последующая начинается тоже с «века». Новая только замедляет движение. Хотя, конечно, с другой стороны, Эль Греко в «Поэме» весьма уместен. Анна Андреевна прочла:
– Грехи смертные, а не смертельные, – сказал Корней Иванович.
– Это совершенно все равно, – не без раздражения ответила Анна Андреевна и принялась вписывать новую строфу в «Решку».
Она ее вписала между строфами:
и
Пока Анна Андреевна меняла «ветку мокрой сирени» на «ворох мокрой сирени»[28], пока она вписывала новую строфу между прежними, а я украдкой через ее плечо перечитывала строфы подряд – задумалась я вот над чем: почему это в поэзии Ахматовой сирень всегда вблизи от смерти, от гибели? Всегда или почти всегда? Я еле успевала ловить летевшие мне навстречу строки:
Ну, тут понятно: куст белой сирени на чьей-то могиле.
Но в «Поэме», вот только что:
И уже давно в «Поэме» о кануне войны, о кануне тысячи тысяч смертей:
Это уже в благополучнейших комнатах, в гостиных (Было: «И в кувшинах вяла сирень»).
Или:
Тут сирень как будто противоположна гибели, но все-таки упомянута где-то поблизости… А вот стихи, обращенные к давным-давно разлучившейся с ней современнице, женщине еще живой, но уже превратившейся для Ахматовой в тень, в тень прошедшего, в символ прошедшей молодости: