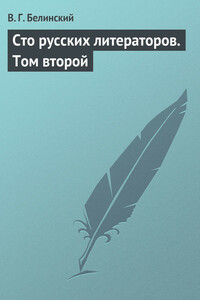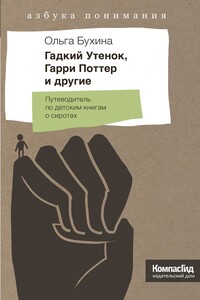Менандр - поэт, рожденный заново | страница 16
"Перевернутость" любовной темы в "Брюзге" и "Щите" имеет последствием отказ драматурга и от других, связанных с нею сюжетных мотивов. Ни в одной из этих комедий нет ни подкинутых детей, ни опознания насильника, ни встречи отцов с потерянными некогда сыном или дочерью (или обоими вместе). Нет и традиционных персонажей, вроде скупого и ворчливого отца (Каллиппид в "Брюзге" и Хэрестрат в "Щите" отличаются редкой щедростью и пониманием положения молодого влюбленного), или хвастливого воина (Клеострат в "Щите", отправившийся на войну, чтобы скопить приданое для сестры, меньше всего похож на пустого фанфарона-вояку), или гетеры, властно вмешивающейся в жизнь молодых людей. Впоследствии Менандр будет использовать многие из стандартных приемов и типов порознь или в различных сочетаниях, но об этом еще речь впереди. В ранних же комедиях в традиционных амплуа выступают только повар (Сикон в "Брюзге", безымянный повар в "Щите"), старуха-прислужница, являющаяся одновременно кормилицей девушки (Симиха в "Брюзге"), да несколько рабов, из которых ближе всего к стереотипу Пиррий в "Брюзге" - "бегущий раб", на ходу сообщающий сведения, важные для экспозиции пьесы (Б. 81-123). Все это, как видим, второстепенные персонажи, не определяющие главного в содержании интересующих нас комедий. Что же становится в них главным?
Ответ на это дает отчасти само название единственной целиком сохранившейся комедии - "Брюзга". Хотя у предшественников Менандра были пьесы под аналогичным или похожим заглавием {"Одинокий" у Фриниха (V в.) и у Анаксила (IV в.), "Брюзга" - у Мнесимаха (IV в.).}, от них практически ничего не сохранилось. Единственное относительно подробное упоминание о Тимоне-мизантропе (может быть, реальном лице) мы находим в "Лисистрате" Аристофана, но там оно содержится в контексте (ст. 808-820), исключающем какую бы то ни было "характерологию". Напротив, Кнемон у Менандра является "характером", если это слово понимать не в его современном, а в античном значении. Нынешнее литературоведение вкладывает в понятие характера совокупность отдельных психических проявлений индивидуума, иногда не легко совмещающихся в одном человеке; к тому же в реалистическом искусстве характер изображается в динамике, в развитии составляющих его черт. Гораздо более однозначное античное понимание характера находит выражение в уже упоминавшемся трактате Феофраста, где среди других человеческих типов мы найдем также скупого, жадного, мелочного, ворчливого, деревенщину, грубияна. Однако, если мы попытаемся приложить эти нормативные категории к менандровскому Кнемону, то окажется, что его образ шире и феофрастовских дефиниций и самого названия комедии.