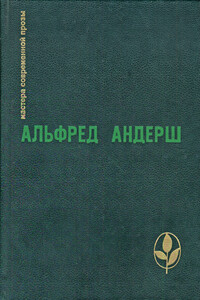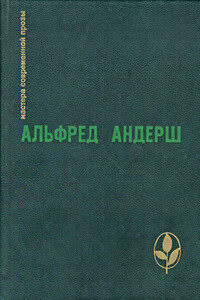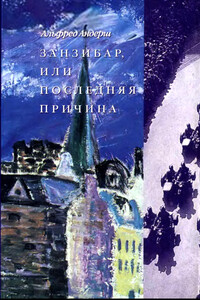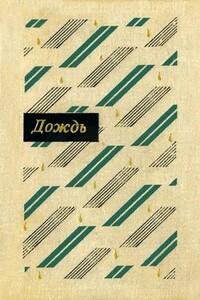Отец убийцы | страница 38
Но когда вспоминаю, что для других автобиографических вещей я, не раздумывая, использовал форму рассказа от первого лица единственного числа, выбор нынешней повествовательной манеры представляется мне еще более загадочным. «Вишни свободы» и «Вещевой мешок» — это воспоминания. С другой стороны, я написал от первого лица роман «Эфраим», но в противоположность Францу Кину Эфраим вовсе не тождествен мне, он совсем не похож на меня, я настаиваю на этом. Кстати, та книга завершается размышлением, не является ли «Я» наилучшей из всех масок. В работе писателя случаются такие противоречия.
Однако я подозреваю — и это единственная гипотеза, которую я позволяю себе по поводу существования Франца Кина, — что намерение вспоминать свою жизнь в повестях сыграло со мной злую шутку. Сама форма не то чтобы заставляет меня, но все же рекомендует воспользоваться Францем Кином. Он предоставляет мне известную свободу повествования, которую не допускает «Я», эта тираническая форма спряжения глагола. Я вижу — и это не позволяет видеть ничего другого, кроме того, что я вижу, видел или увижу, в то время как ему незачем так сурово сужать поле своего зрения. Я говорю здесь не о внутренней жизни Кина, не о роли фантазии в тексте — то и другое не вправе ни на волосок отклоняться от моей собственной внутренней жизни, от моей собственной фантазии, — а только о передвижных декорациях, выдвигаемых мной на сцену моей памяти, на сцену, на которой я позволяю ему играть. Приведу пример: эпизод с Конрадом фон Грайфом в «Отце убийцы» разыгрывался не на описанном в этой повести уроке греческого, а при других обстоятельствах. (В полной драм немецкой школе авторитарного воспитания никогда не было недостатка в случаях интерполяции сцены приспособления.) Если я выложу эту карту на стол, станет ли, согласно правилам автобиографии, повесть фальшивой, неправдоподобной? Не думаю. Напротив, благодаря этому она мне кажется более достоверной. Вообще автобиографии следует быть только достоверной — в пределах границ, которые ставит перед ней это требование, она вольна делать что вздумается. Что я хочу этим сказать? Если бы я утверждал, будто сам присутствовал при той истории со спесивым учеником на экзаменационном уроке, я не то чтобы солгал, но приврал бы. Однако я не вправе позволить себе даже такое невинное удовольствие. Кин же вправе выдавать себя за свидетеля. В его рассказе Виттельсбахская гимназия 1928 года предстает куда зримее, чем через строгое «Я» чистой автобиографии. У формы повествования сложные отношения с объектом жизнеописания. В таких произведениях остается нечто нерешенное, согласен. Но это даже входит в мои намерения.