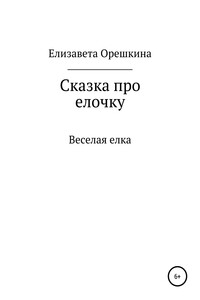Далеко-далеко отовсюду | страница 31
А сын лежит и говорит на это: «Да, отец, конечно, хорошо».
Две недели пришлось проторчать дома, потому что врач сказал, что, пока не нормализуется зрение, лучше никуда не выходить. Было очень скучно, — я не мог даже читать, все двоилось перед глазами, — но мне было все равно. Я не хотел читать.
Заходила Натали, это было, по-моему, в пятницу, сразу после несчастного случая. Мама поднялась ко мне, чтобы сказать об этом, но я заявил, что никого не хочу видеть. В субботу или в воскресенье зашли Джейсон и Майк, посидели, порассказывали анекдоты. Ушли разочарованные, потому что я ничего не рассказал им о катастрофе.
Когда я вернулся в школу, избегать встреч с Натали мне не составляло никакого труда. Раньше-то нелегко было устроить встречу с ней из-за ее жуткой занятости. А теперь я просто стал чуть позже ходить на ленч и не появлялся на автобусной остановке в два тридцать, и я ни разу не видел ее.
Мне бы, наверное, следовало объяснить, почему я так поступал, почему не хотел видеть ее, но не могу. Отчасти это само собой разумеющаяся вещь, не правда ли? Мне было стыдно, я был обескуражен, ну и так далее, и тому подобное. И я раскаивался, и переживал свой крах, и прочее, и прочее. Но все это из мира эмоций, я же не размышлял ни о чем, все чувства у меня притупились. Кажется, все потеряло для меня значение. Главное, чтобы ничего не болело. А искать сочувствия — дело пустое. Я был одинок. Я всегда был одинок. Пока я был с нею, я делал вид, что не одинок, но я был одинок даже тогда, и в конце концов я заставил и ее в это поверить, и она отвернулась от меня, как и все остальные. Ну и пусть, какое это имеет значение, в самом-то деле. Если я один — ладно, тем лучше, примем к сведению и не будем притворяться. Наверное, я та самая личность, которая никак не может ужиться с данным обществом. Ждать, что кто-то меня полюбит, глупо. За что меня любить? За мозги мои? За сотрясенный мой, крупнокалиберный, неповторимый мозг? За это никто не любит. Гадкая это штука, мозг. Некоторые любят мозги, обжаренные в масле, но только не американцы.
Для меня вроде бы оставалось место только на Торне. Правительства в обычном смысле слова на Торне не существовало, но были там кое-какие организации, в которые можно было по желанию войти; одна из них называлась «Академия». Ее здания ярусами поднимались по склонам самых высоких гор. Огромная библиотека, лаборатории, превосходное научное оборудование, масса кабинетов и студий. Люди приходили туда учиться или учить — в зависимости от того, к чему они были готовы; занимались научными исследованиями — в одиночку или группами, по собственному выбору. Вечерами они собирались — те, кто этого хотел, — в большом зале, где горело несколько каминов, и обсуждали проблемы генетики и истории, проблемы сна и полимеров, рассуждали о возрасте вселенной. Если вам неинтересна была беседа у одного камина, вы могли перебраться к другому. Вечера на Торне всегда холодные. Но туманов нет на склонах гор, и постоянно дует ветер.