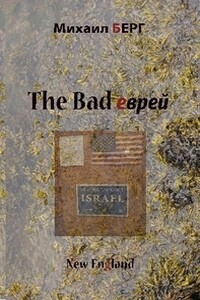Рос и я | страница 25
Проснувшись в понедельник, 21 января, с тяжелой головой, Петр Сигизмундович Клейнмихель по привычке протянул руку, чтобы звонком дать знать, что он проснулся (и помня, что через полчаса машина повезет его завтракать в известный шоферу дом на Большой Морской, где его ждали), и тут же, с гнетущим чувством повернув голову, увидел на подносе рядом с постелью конверт с австрийским штемпелем — и остановил руку на полпути. Двенадцать или тринадцать неряшливых строк письма, на которое он наткнулся вчера ночью, извещали его о кончине жены, баронессы Клейнмихель, последовавшей полторы недели тому назад в больнице для бедных на окраине австрийской столицы. Неизвестный Петру Сигизмундовичу клерк, по фамилии Крус или Фрус, извещал его, что несчастная женщина, очевидно, по ошибке приняла чрезмерную дозу веронала и скончалась на рассвете, так и не придя в себя после операции. Петр Сигизмундович уронил руку на простыню и, как и вчера ночью, когда мятый листок впервые преподнес ему приз в виде короткого известия о наступившей свободе, ощутил тошноту, слабость в ногах, головокружение, которые с физиологической дотошностью маскировали эйфорию и невозможность сразу привыкнуть к тому, что баронессы Клейнмихель, которая была на двадцать семь лет моложе мужа, больше нет.