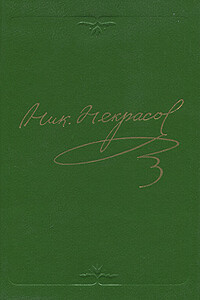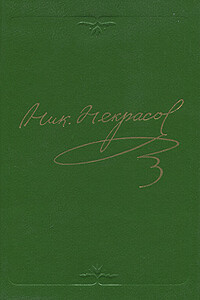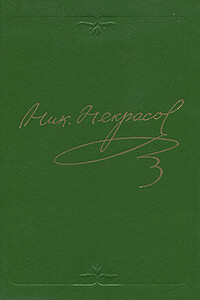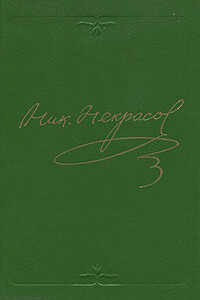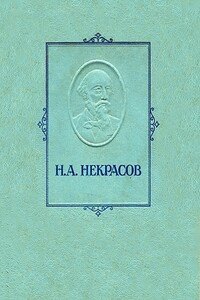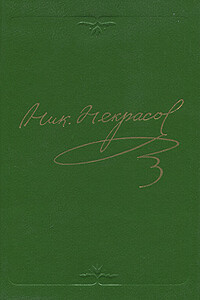Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856 | страница 56
Однажды, когда мы были в кондитерской, Матильда шепнула мне, что ей хочется шампанского. «Так, что-то страшно! — прибавила она. — Я никогда не пью, а сегодня бы выпила». Я велел подать полубутылку. Матильда выпила четыре бокала, я только два. Потом мы сели в карету (Матильда проговорилась, что она давно не езжала в карете). «Куда же теперь?» — спросила Матильда. Я понимал, что следовало отвечать: «Ко мне», но язык мой не двигался: на меня напала ужасная робость. Матильда прижалась лицом к моему плечу и засунула горящую руку свою мне под жилет. «Куда же?» — повторила она шепотом над самым моим ухом, на котором в то же время отразился горячий след ее поцелуя. Я сделал усилие над собою, и уста мои произнесли невнятный звук, который Матильда перевела очень удачно. «К тебе, душенька?» — сказала она с живостью. «Да!» — отвечал я протяжным шепотом. Робость моя наконец уступила место другому чувству, более сильному, которое она доселе заглушала. С каждой минутой нетерпение мое увеличивалось; во всем теле я чувствовал боль и дрожь.
Выскочив из кареты, я прямо бросился к колокольчику и начал звонить изо всей силы; когда калитка была отворена, я взял Матильду за руку и через темный коридор ввел в свою комнату. В то время как она переходила из угла в угол, вероятно отыскивая стул, на котором бы могла сесть, я ощупал лежавший на окне ящичек со спичками и шаркнул одну из спичек об стену. Спичка вспыхнула, разгорелась и озарила четыре голые стены желтого цвета, разостланный среди полу ковер и на нем подушку и одеяло, расшнурованный чемодан, из которого торчали разные принадлежности мужской одежды, в правом углу узел грязного белья, на котором покоилась хозяйская кошка, в левом — худые сапоги и замаранные засохшей грязью калоши; на одном окошке чайник, с поврежденным носом, без крышечки, чашку и блюдечки, бутылку, в которой торчала свеча, щепоть чаю на крышечке от чайника, обернутой кверху, и кусок сахару, выглядывавший из лоскутка синей бумаги; на другом — две банки: с помадой и ваксой, сапожную щетку, гребенку, три сальных свечки и несколько русских романов; на третьем и последнем — умывальник, коротенькую трубку и горсть табачной золы. Около ковра — единственный предмет роскоши — стоял деревянный трехногий стул, обтянутый кожею, из которой выглядывала мочала; на стуле стояла чернильница и лежал лист бумаги с недописанными стихами; подле стула на полу валялось несколько тетрадей и листков стихотворного содержания. Такова была комната, в которой я жил. Торопясь выехать из гостиницы, где за каждые сутки нужно было платить не менее двух рублей, я нанял первую попавшуюся комнатку в твердом намерении на другой же день купить несколько необходимой мебели (так как я намеревался пробыть в Петербурге, я мог бы нанять квартиру и с мебелью, но за мебель нужно было платить дороже по крайней мере пятью рублями в месяц), но русский человек предполагает, а случай располагает; на другой день мне было недосуг, на третий — я очень устал, дежуря в приемных важных людей, на четвертый — влюбился! Таким образом случилось, что я спал чуть не на голом полу, пил чай из худого хозяйского чайника и писал стихи на трехногом хозяйском стуле, подогнув под себя ноги по-турецки.