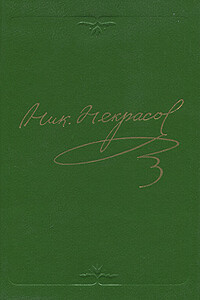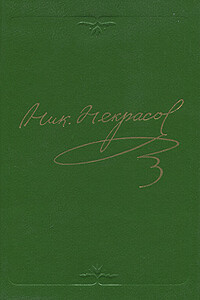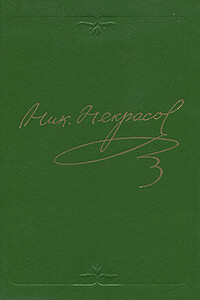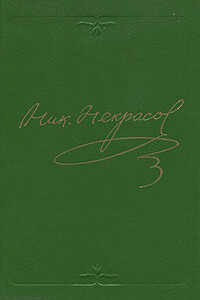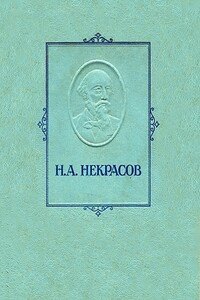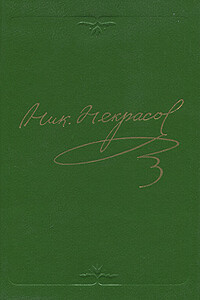Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856 | страница 46
О том, какое действие производят рекомендательные письма, о которых так много хлопочут провинциалы, отправляющиеся в Петербург
После семидневного путешествия мы наконец завидели Петербург. Расспросив ямщика, в какой части города дешевле квартиры, мы приказали ему ехать в Ямскую. Здесь заняли мы общую комнату в доме коллежского асессора Завитаева и перетащили в нее пожитки свои. Мещанин бросился в дегтярный ряд, поручик отправился в баню, а я завалился спать на единственной ветхой кровати, покрытой дырявым матрасом, который к тому же издавал какой-то неестественный запах. Мне было не до того, чтоб добиваться, чем именно пахнул матрас: глаза мои, красные от пыли и долгой бессонницы, невольно слипались, со лба, щек и носа кусками лупилась кожа, все члены мои болели и громко просили успокоения. Я спал осьмнадцать часов. Думаю, что я проспал бы и двадцать четыре, если б не одно обстоятельство: среди самого сладкого сновидения я вдруг почувствовал чрезвычайную жгучую боль во всем теле, как будто в мое тело воткнули тысячу иголок самых тонких и вострых; сначала я стал кататься на своей постели, всё еще стараясь удержаться в приятном самозабвении, в котором находился; наконец вскочил с нее и тотчас же опять сел на нее, страшно вытаращив глаза, чем напугал и чуть не отправил на тот свет поручика, который в ту самую минуту разжевывал огромный кусок бифштекса, чрезвычайно твердого. Проснувшись наконец совершенно, я, кроме сильной боли, почувствовал дрожь, — что обыкновенно бывает после продолжительного путешествия на телеге, — шея моя тряслась, как у столетнего старика, зубы стучали; во всем теле заметно было постепенно затихавшее колыхание, подобное тому, какое бывает с деревом после бури. Эта дрожь была мучительна и заставила меня на минуту забыть боль, от которой я проснулся. Но когда она затихла, с ужасом увидел я по всему телу своему большие красные пятна; на лице, на руках и ногах моих в большом количестве ползали вонючие красные гадины, подушка, на которой я за минуту лежал, была усеяна теми же гадинами и покрыта пятнами свежей крови… увы! моей собственной крови, которую я, может быть, собственными губами выдавил из зловонных отвратительных гадин!
Иван Софронович утешал меня, как умел, но без успеха. Известно, что бывают несчастия, которые выше всяких утешений, и к числу-то этих несчастий принадлежало то, которое встретило меня на пороге петербургской жизни. Стыдясь показаться на свет божий, с облупившимся загорелым лицом, покрытым красными пятнами, с носом, который от долгого трения во время сна об жесткое сукно шинели был коричневого цвета и, кроме того, как-то необыкновенно увеличился в объеме, я просидел дома трои сутки, только по вечерам высовываясь из своего заключения, чтобы полюбоваться петербургскими диковинками.