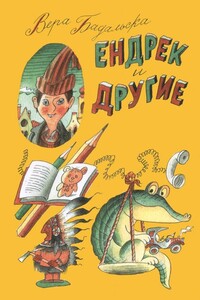Алкамен — театральный мальчик | страница 80
Все тело мое болит, жжет содранная кожа, горят царапины. Но это все пустяки. А Мика, Мика!.. Гнев закипает во мне, я готов проклинать свое мягкосердечие, но теперь уж поздно.
Ах, Мика, неужели ничего не поправить? Посланная разведка вернулась, сообщила — неприятеля нет поблизости. Эсхил расставил посты, велел отдыхать.
Стреножили коней, засыпали им в торбы ячменя — путь еще предстоит неблизкий. Воины ослабили ремешки лат, сняли шлемы, повалились на траву, и вот уже некоторые храпят как ни в чем не бывало.
Небо светлеет, рассвет недалек. Я вглядываюсь в заострившееся лицо Мики — кажется, что она вот-вот вздохнет в последний раз и...
— Помни, Терей, — выговаривает Эсхил где-то около лошадей. — Подковы необходимо осматривать ежедневно. Некоторые видят — гвоздь ослаб, и машут рукой: а, мол, еще успеется, перекую! А лошадь хромает и портится.
— Да я осматривал, — оправдывается десятник. — А скачка какая была? С кого угодно подковы слетят!
— Теперь нужно бы рассолу, — продолжает Эсхил, — губкой обтереть бы копыто, полить козьим жиром в поврежденном месте.
И тут я не выдержал. И тут я осмелился поднять голос на великого поэта:
— Эсхил, Эсхил! Посмотри, она умирает, а ты говоришь о лошадях, о подковах, о козьем жире! Что нам делать, Эсхил?
Командир подошел, опустился рядом со мной, тихонько дунул девочке в лицо. Ресницы ее при этом затрепетали и по лицу пронеслась слабая тень страдания.
— Видишь? — шепнул мне Эсхил. — Она жива. Жизнь борется в ней со смертью, и мы бессильны ей помочь или помешать. Но будем надеяться на помощь богов.
Он помолчал и продолжал, положив мне руку на плечо:
— Если мы не будем заботиться о копытах, пропадет конница. Пропадет конница — проиграем битву. Проиграем битву — пропадет все. Как видишь, от каждой мелочи зависит судьба великого. А впрочем, все пойдет так, какова будет милость богов.
— А в чем она, эта милость богов? В том, что один от рождения богат и счастлив, а он — изменник и трус. Другой же, может быть, и храбр и доблестен, а он — раб, и всякий может бить его палкой...
Эсхил поднялся, зевнул и сказал примирительно:
— Всякому своя судьба: господину — своя, рабу — своя. Так предначертал Зевс — властитель судеб.
И тогда я осмелился продекламировать ему сочиненные им же строки из «Прометея»:
По совести сказать, любой афинянин на месте Эсхила угостил бы плеткой глупого раба за дерзость. А Эсхил смутился. Давно я слыхал, что Эсхил только на сцене гремит дерзкими стихами, а в будничной жизни он терпелив, богобоязнен.