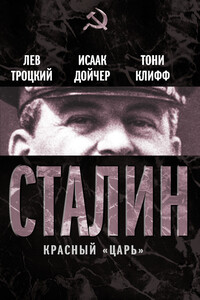Троцкий. Изгнанный пророк, 1929-1940 | страница 70
Отныне Сталин провозгласил конец нэпа и отмену рыночной экономики. Прослеживая взгляды Троцкого на более ранней стадии, мы замечаем, что в них «не было места для какой-либо внезапной отмены нэпа, для директивного запрета частной торговли…» и что социалистическое планирование «не может отменить нэп одним махом, а должно развиваться внутри смешанной экономики, пока социалистический сектор своим растущим превосходством постепенно не поглотит, трансформирует или ликвидирует частный сектор и перерастет рамки нэпа». Троцкий все еще придерживался этих взглядов. Он считал отмену нэпа домыслом бюрократических мозгов — только бюрократия, которая за долгий период пренебрежения индустриализацией и неверного подхода к крестьянству не сумела справиться с силами рыночной экономики и позволила им выйти из-под контроля, может пытаться объявить декретом, что рынок не существует. Но «выброшенный в дверь рынок может вернуться через окно», — говорил Троцкий. Пока сельское хозяйство не обобщено органически и устойчиво, а вокруг царит поголовный дефицит товаров, невозможно упразднить свободное действие спроса и предложения и заменить это плановым распределением товаров. Спонтанное давление рынка вначале совершит прорыв в сельском хозяйстве, потом в тех отраслях, где аграрное хозяйство и индустрия перекрываются, и, наконец, даже в национализированном секторе экономики, где оно часто нарушает и искажает планы. Наглядное свидетельство этого, особенно в начале 30-х годов, — в хаосе государственных и рыночных цен на потребительские товары, в фантастическом размахе черного рынка, в девальвации рубля и в крутом падении покупательной способности. Составители планов работали «без линейки и весов», не имея возможности установить истинные стоимости и расходы и оценить производительность труда. «Вернитесь к линейке и весам» — так Троцкий постоянно советовал. Вместо того чтобы заявлять, что воздействие рынка преодолено, плановикам было бы лучше признать его влияние, учесть его и постараться взять его под контроль. Даже в последующие годы, после того как была повержена разбушевавшаяся инфляция начала 30-х годов, эти критические высказывания сохранили свою важность; и тут также многое из того, что говорили советские экономисты в первые годы после Сталина о важности системы измерений стоимостей и отчетности в расходах, звучало эхом аргументов Троцкого.
Сталинская ширма секретности над экономической информацией затеняла и другие важные вопросы. Кто платит за индустриализацию, какой общественный класс и сколько? Какие классы и группы от этого выигрывают и до какой степени? В начале 20-х годов лидеры оппозиции, особенно Преображенский, утверждали, что крестьянство будет обязано в большой степени внести вклад в фонд капиталовложений в национализированную промышленность. Сталин через коллективизацию надеялся гарантировать этот вклад со стороны крестьянства путем повышения производства сельхозпродукции и снабжения продовольствием и сырьем. Но крестьянство расстроило его планы. «Пусть моя душа пропадет вместе с комиссарами!» — так кричал мелкий собственник, покидая свое хозяйство. И хотя ему не удавалось разрушить опоры коллективистского государства, он отказывался сдать стране ту большую часть средств на индустриализацию, которая от него ожидалась. Вот к чему на практике привело уничтожение скота и падение производства.