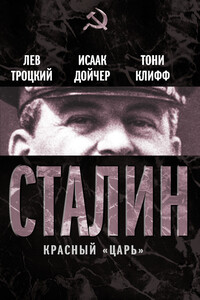Троцкий. Изгнанный пророк, 1929-1940 | страница 52
Для Сталина капитуляция крупной части оппозиции была достаточно важна из-за эффекта, который она обязательно окажет на партийный дух и на судьбу Троцкого. Желая переманить примиренцев и стараясь не уничтожить все их надежды одним махом, он поначалу изображал готовность изучить некоторые их пожелания, но в действительности он не мог принять ни одного из них. Прежде всего, он не мог позволить оппозиционерам заявлять при их восстановлении, что они вернулись, потому что партийное руководство приняло их программу, — это было равносильно не просто подтверждению правоты Троцкого и троцкизма и отказу от всех обвинений против него, но и выставлению напоказ незаконности преследований, которые Сталин обрушил на них. Он не мог никому позволить даже намекать на факт, что он позаимствовал страницу — и какую страницу! — из книги Троцкого. Сделав это, он уничтожит свои собственные претензии на непогрешимость и власть. Капитулянты должны объявить, что прав был он, а не они с Троцким. Они должны осудить и отречься от своего прошлого. Нетерпимо, чтобы они вернулись как непонятые новаторы; они могут вернуться только в качестве полных раскаяния саботажников левого курса и всей политики, которая последовательно вела к нему. Но даже тогда им нельзя позволить возбуждать в партии чувства, свойственные несчастным растратившимся детям, — они могут лишь рассчитывать на прощение, которое получают закоренелые грешники и преступники; они должны проделать свой обратный путь на коленях. Чтобы заставить их сделать это, Сталину приходилось преодолевать сопротивление их внутренней обороны с помощью медленного и упрямого торга и вынуждать сдавать одно требование за другим, пока они не дошли до точки безусловной капитуляции. Поведение Сталина не было удивительно: условия, на которых капитулировали Зиновьев, Каменев, Антонов-Овсеенко, Пятаков и многие другие, а также процесс, через который их провели, чтоб заставить сделать это, все еще были свежи в памяти каждого. Но такова уж была сила самообмана, что многие примиренцы, которые издали с тревогой следили за переговорами Преображенского в Москве, — ему было разрешено сообщаться с колониями депортированных, — все еще наделись, что их избавят от оскорблений, чинившихся прежним капитулянтам.
Через месяц результаты переговоров Преображенского были уже заметны в поведении его ближайших товарищей. В середине июня под контролем ГПУ в Москву поехали также Радек и Смилга, чтобы присоединиться к Преображенскому. Их поезд остановился на маленькой сибирской станции, где они случайно встретились с группой оппозиционеров, которые описали встречу в письме, сохранившемся среди бумаг Троцкого. Они разговаривали только с Радеком: Смилга был болен, а потому оставался в своем купе. Радек рассказал им о цели поездки и выдвинул уже знакомый аргумент для сдачи: всеобщий голод, нехватка хлеба ощущается даже в Москве, недовольство рабочих, угроза крестьянских восстаний, разногласия в Центральном комитете («где бухаринцы и сталинцы замышляют арестовать друг друга») и т. д. Ситуация, говорил он, столь же серьезна, как и в 1919 году, когда Деникин стоял у ворот Москвы, а Юденич штурмовал Петроград. Потребует ли он в Москве снятия со ссыльных обвинений по статье 58 Уголовного кодекса, этого клейма контрреволюции? Нет, отвечал он; те, кто упорствуют в оппозиции, заслуживают это клеймо. «Мы сами, — кричал он, — загнали себя в ссылки и тюрьмы!» Потребует ли он возвращения Троцкого? Прошло лишь несколько недель, как Преображенский заявил, что оппозиция «не может простить» изгнания Троцкого, и несколько месяцев, как сам Радек, автор знаменитого эссе «Троцкий — организатор победы», выразил протест Центральному комитету за то, что тот является причиной «медленной смерти» этого «боевого сердца революции», и завершил свой протест словами: «Хватит этой нечеловеческой игры со здоровьем и жизнью товарища Троцкого». Но за последние несколько недель логика капитуляции перед Сталиным сделала свое дело. И к своему изумлению, собеседники Радека услышали его ответ: «Я определенно порвал со Львом Давидовичем — отныне мы политические враги. С сотрудником газет лорда Бивербрука я не имею ничего общего». (Сам Радек часто писал в буржуазную прессу, а потом продолжит заниматься этим вновь, но уже в интересах Сталина.